
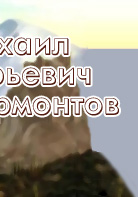
Библиотека
Энциклопедия
Ссылки
О проекте

"Кружок шестнадцати"
1
19 июля 1840 года Ю. Ф. Самарин писал из Москвы своему старшему другу И. С. Гагарину в Париж:
"Я давно уже хотел писать вам; каждый раз, когда мне случится испытать какое-нибудь впечатление, живо постичь какой-нибудь занимающий меня предмет, у меня к радостному чувству движения вперед присоединяется желание поделиться с вами и знать ваше о нем мнение.
Вскоре после вашего отъезда я видел, как через Москву проследовала вся часть шестнадцати, направляющаяся на юг. Я часто видел Лермонтова за все время его пребывания здесь".
Далее Самарин дает свою известную тонкую и глубокую характеристику Лермонтова, заключая ее знаменательными словами: "В моем положении мне жаль, что я его не видел более долгое время. Я думаю, что между ним и мною могли бы установиться отношения, которые помогли бы мне понять многое"*.
* (Воспоминания, с. 298, 299 (с небольшими разночтениями в переводе с фр.))
Юрий Федорович Самарин, впоследствии известный публицист и общественный деятель, один из лидеров славянофилов, в описываемое время готовил магистерскую диссертацию о русских религиозных проповедниках XVII-XVIII веков и напряженно вырабатывал свое мировоззрение. Поэтому он так тянулся к старшим собеседникам, заслужившим его уважение. В те годы у князя Ивана Сергеевича Гагарина уже был опыт общения со знаменитым немецким философом Шеллингом, с которым он встречался во время своего пребывания в Мюнхене на службе в русской дипломатической миссии. Там же Гагарин сблизился с поэтом Ф. И. Тютчевым, служившим в той же миссии. В 1835-1837 годах Гагарин много жил в России. В Москве он был связан с П. Я. Чаадаевым и по его поручению привез Пушкину в Петербург оттиск "Философического письма", напечатанного в ноябрьской книге "Телескопа" за 1836 год. Он был также посредником между Пушкиным и Тютчевым, приславшим в Петербург свои стихи, вскоре напечатанные в "Современнике". Гагарин находился в Петербурге и в трагические дни гибели Пушкина. По ряду причин он навлек на себя подозрение в участии в рассылке анонимного пасквиля. Эти подозрения вскоре рассеялись. Это видно из того, что близкие друзья Пушкина охотно встречались с Гагариным и за границей в 1837-1838 годах, и в Петербурге в 1839 году.
Отчасти под воздействием Чаадаева Гагарин уже в молодости склонялся к католицизму. Но только в 1843 году, перейдя в католическую веру, он вступил в орден иезуитов, покинув навсегда Россию. Столь решительный перелом его жизни вызвал большой шум в обществе. Царское правительство лишило его русского гражданства, да и современники его осуждали.
Но вернемся к лермонтовским временам.
По упоминанию молодого Самарина о "шестнадцати" можно заключить, что и Гагарин, и Лермонтов принадлежали к этой группе. По-видимому, это был петербургский кружок, поскольку его участники были в Москве только проездом. Это впечатление подтверждается поздним свидетельством эмигрировавшего из России Ксаверия Браницкого. Речь идет об изданной им в 1879 году в Париже французской книге "Славянские нации". Она написана в форме писем к тому же И. С. Гагарину. Во вступительном письме Браницкий писал:
"В 1839 году в Петербурге существовало общество молодых людей, которое называли по числу его членов "шестнадцатью". Это общество составилось частью из окончивших университет, частью из кавказских офицеров. Каждую ночь, возвращаясь из театра или с бала, они собирались то у одного, то у другого. Там после скромного ужина, куря свои сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всем и все обсуждали с полнейшей непринужденностью и свободою, как будто бы III Отделения собственной его императорского величества канцелярии вовсе и не существовало, - до того они были уверены в скромности всех членов общества.
Мы оба с вами принадлежали к этому свободному веселому кружку - и вы, мой уважаемый отец, бывший тогда секретарем посольства, и я, носивший мундир гусарского поручика императорской гвардии.
Как мало из этих друзей, тогда молодых, полных жизни, осталось на этой земле, где, казалось, долгая и счастливая жизнь ожидала их всех!
Лермонтов, сосланный на Кавказ за удивительные стихи, написанные им по поводу смерти Пушкина, погиб в 1841 году на дуэли, подобно великому поэту, которого он воспел.
Вскоре таким же образом умер А. Долгорукий. Не менее трагический конец - от пуль дагестанских горцев- ожидал Жерве и Фредерикса. Еще более горькую утрату мы понесли в преждевременной смерти Монго-Столыпина и красавца Сергея Долгорукого, которых свела в могилу болезнь. Такая же судьба позднее ожидала и Андрея Шувалова.
Из оставшихся в живых кое-кто оставил некоторый след в современной политике. Но лишь один занимает блестящее положение еще и поныне. Это - Валуев, принадлежащий к министерству, при котором совершилось освобождение крестьян и про которого говорят в последнее время, что ему предстоит получить наследие князя Горчакова*.
* (А. М. Горчаков -с 1856 по 1882 гг. русский министр иностранных дел)
Что касается нас обоих, то мы, согласно с нашими убеждениями, пошли другими путями, совершенно отличными от путей наших товарищей"*.
* (Там же, с. 243-244 (с разночтениями в переводе с фр.))
Бросается в глаза, что Браницкий называет только умерших членов кружка, а из живых указывает на одного П. А. Валуева. Видимо, он считал, что при высоком положении Валуева его нельзя было скомпрометировать политически.
На осторожность Браницкого указывает и то, что он назвал еще одного участника кружка только после его смерти. Так, в письме к Гагарину, не попавшем в книгу, Браницкий писал 7 января (нового стиля) 1879 года: "Может быть, вы уже знаете: один из бывших "шестнадцати" Борис Голицын умер"*. Это - Борис Дмитриевич Голицын, сын московского генерал-губернатора, унаследовавший от него титул светлейшего князя и умерший в высоких чинах в Париже 22 декабря (нового стиля) 1878 года. Голицын принадлежал к тем из "шестнадцати", которые пришли в кружок со студенческой скамьи. Он учился в московском университете, но перевелся в петербургский, который и окончил одновременно с Ва- сильчиковым и Сергеем Долгоруким**.
* (ЦГАЛИ, ф. 1049, оп. 1, № 6, л. 5. Перевод с фр. Подробнее см. мою заметку "Двенадцатый" (в кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л, Наука, 1979, с. 182-187))
** (ЦГАДА, ф. 1263, оп. 7, №№ 63-64, 120)
Предусмотрительность Браницкого наводит на мысль о конспиративном, а следовательно, политическом характере этого аристократического кружка. В 1935 году Б. М. Эйхенбаум сопоставил скудные сведения Браницкого и Самарина с двумя групповыми портретами работы Григория Гагарина (двоюродного брата Ивана)*. На обоих рисунках - названные Браницким персонажи. Гагарин сам надписал имена над каждым. Но один рисунок сделан в Петербурге, приблизительно в январе 1840 года, а другой подписан самим художником: "Кисловодск. 28 августа 1840 год"**. В Петербурге изображены Монго-Столыпин, Ксаверий Браницкий, Сергей Долгорукий, Андрей Шувалов, его младший брат Петр Шувалов и Александр Васильчиков, будущий секундант на дуэли Лермонтова с Мартыновым. Художник нарисовал их в свободных, непринужденных позах. Браницкий, стоя, самозабвенно говорит, подняв руку ораторским жестом. Сергей Долгорукий, тоже стоя или расхаживая по комнате, возражает ему, остальные внимательно слушают, удобно расположившись в креслах и покуривая свои трубки. На переднем плане еле набросана карандашом сидящая в кресле фигура. В ее контурах некоторые исследователи склонны признать Лермонтова. Очевидно, Григорий Гагарин нарисовал одно из собраний кружка. Из всех изображенных лиц только двое - Васильчиков и Петр Шувалов - не указаны Браницким в числе "шестнадцати". Но они были еще живы во время выхода книги "Славянские нации". Между тем оба они тоже были однокурсниками Сергея Долгорукого. Напрашивается мысль, что они могут быть причислены к членам кружка, влившимся в него со студенческой скамьи. Заметим, что А. Васильчиков, по словам его биографа, "уже в юношеском возрасте... начал обнаруживать поведение", обращавшее на себя внимание, это поведение не нравилось, и на нем были построены вскоре замечания о каком-то непохвальном "свободомыслии". Как будет видно из дальнейшего, Васильчиков проявлял эти черты еще в университете***
* (Эйхенбаум Б. М. Основные проблемы изучения Лермонтова.- Литературная учеба, 1935, № 6)
* (Петербургский рисунок - в ИРЛИ, кавказский - в Государственном Русском музее).
*** (См. главу "Тайный враг", с. 243)
В Кисловодске изображены в пустой комнате за карточным столом Монго-Столыпин, Сергей Долгорукий, Александр Долгорукий, Жерве, Сергей Трубецкой (тоже будущий секундант па дуэли Лермонтова), Александр Васильчиков, его сослуживец по Закавказской комиссии сенатора Гана Ю. К. Арсеньев и боевой товарищ Лермонтова Карл Ламберт. На дверях комнаты надпись: "Здесь я проигрался. Славянин". Первые четверо, без сомнения, принадлежат к "кружку шестнадцати". Да и сам художник Григорий Гагарин, умерший только в 1893 году, входил, по-видимому, в кружок. Это убедительно показал искусствовед А. Савинов, рассмотревший рисунки с точки зрения взаимосвязи художника и его натуры*. Савинов писал, что петербургский групповой портрет "не просто воспроизводит черты того или иного члена кружка в небольшом и нейтральном портрете, но показывает этих людей в их общении, в их отношении друг к другу". В кисловодской группе А. Савинов отмечает "тонкую передачу дружественной атмосферы". Вспомним, что на Кавказе Гр. Гагарин был тесно связан с Лермонтовым, нередко работая совместно с ним над изображениями разных боевых эпизодов или кавказских пейзажей.
* (Савинов А. Лермонтов и художник Г. Г. Гагарин. - Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 449-450)
Если к этому добавить, что иногда Гр. Гагарин делал акварели, основываясь на зарисовках Александра Долгорукого и Сергея Трубецкого, то предположение А. Савинова о принадлежности Гр. Гагарина к "шестнадцати" представится весьма правдоподобным.
Но почему же они все оказались вместе на Кавказе?
Б. М. Эйхенбаум выдвинул три предположения. Либо члены кружка добровольно перевелись на Кавказ вслед за Лермонтовым, либо конспиративный кружок был раскрыт и члены его высланы на Кавказ, либо им "посоветовали" уехать.
Против первого варианта говорит то, что, по свидетельству П. А. Валуева, в 1840 году кружок уже распался. На это он указал в своем позднем дневнике (опубликован уже после кончины Б. М. Эйхенбаума). Узнав о смерти Андрея Шувалова в 1876 году, Валуев посвятил ему в своем дневнике несколько строк. Он упомянул о прикомандировании А. Шувалова к лейб-гвардии гусарскому полку и продолжал: "В 1838-1840 - связь с Браницким, Столыпиным, Долгоруковым, Паскевичем, Лермонтовым и пр. (les seize*, к которым и я принадлежал)**. Помимо того, что здесь назван еще один из "шестнадцати" - Паскевич (очевидно, очень еще юный- сын фельдмаршала И. Ф. Паскевича), эта запись Валуева важна тем, что является третьим документом, где прямо встречается название "кружка шестнадцати". Больше в литературе таких упоминаний не обнаружено. Что касается даты, указанной Валуевым, то ее можно понять как время существования всего кружка: зима 1838-1839 и весна 1840 года.
* (Шестнадцать (фр.))
** (Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел. В 2-х томах, т. II, 1865-1876. М, Изд-во АН СССР, 1961, с. 355)
Для того чтобы проверить гипотезу Эйхенбаума, необходимо было уточнить сведения о названных участниках кружка, так как Браницкий не указал даже их инициалов. После того как они были найдены, стало возможным изучать их биографии по официальным документам. Выяснилось, что к числу бывших кавказских офицеров принадлежали Николай Андреевич Жерве, Алексей Аркадьевич Столыпин (Монго), граф Андрей Павлович Шувалов, барон Дмитрий Петрович Фредерике и, разумеется, Лермонтов, вернувшийся из первой кавказской ссылки. Жерве и Шувалов были высланы на Кавказ еще в 1835 году, причем Шувалова в одной из военных экспедиций ранили в грудь.
Сойдясь в 1838 году в Петербурге, большинство из них, действительно, в начале 1840 года было переведено в разные полки Отдельного кавказского корпуса. Тогда же А. Васнльчикова и Сергея Долгорукого прикомандировали к Закавказской комиссии сенатора П. В. Гана, и только А. Шувалов и Кс. Браницкий получили назначения в Варшаву адъютантами фельдмаршала Паскевича. Ни в формулярных списках каждого из "шестнадцати", ни в приказах о награждениях и повышениях, ни в прочих официальных документах не было обнаружено никаких признаков репрессий или опалы членов кружка. Напротив, выяснилось, что они уехали добровольно. Казалось бы, подтвердился первый вариант гипотезы Б. М. Эйхенбаума. Связанное с этим убеждение о главенствующей роли Лермонтова в "кружке шестнадцати" подкрепилось тем, что, как выяснилось, члены его вновь съехались в Петербурге в 1841 году, когда Лермонтов был там в отпуске*.
* (Подробные сведения приведены в моей работе "Лермонтов и "-кружок шестнадцати" (см.: Литературный критик, 1940, № 9-10, с. 222-249) и в сб. "Жизнь и творчество М. Ю. Лермонтова" (М., Гослитиздат, 1941, с. 77-124))
Однако обращение к частной переписке, хранящейся в архиве бывшей библиотеки Зимнего дворца и в фонде "Остафьевского архива" князей Вяземских, изменило это представление. Оказывается, добровольный отъезд "шестнадцати" из Петербурга был только формой, право на которую они завоевали при помощи своих влиятельных родителей.
Обратимся к этим материалам.
Лейб-гусар Андрей Шувалов, который вместе с Монго-Столыпиным привлек к себе внимание императрицы в маскараде 3 февраля 1839 года*, был сыном княгини Ди-Бутера (в первом браке была за графом П. А. Шуваловым). Княгиня Ди-Бутера присутствовала на венчании Геккерна с Екатериной Гончаровой, была связана с С. А. Бобринской и состояла с родстве с Строгановыми. Не удивительно, что, озабоченная судьбой старшего сына, она обратилась за содействием к близкой этому кругу старой фрейлине-тетке Натальи Николаевны Пушкиной. 30 декабря 1839 года императрица отмечает в дневнике: "Мадемуазель Загряжская о молодом Шувалове"**.
* (См. выше, в главе "Лермонтов и двор", с. 38)
** (ЦГАОР, ф. 672, оп. 1, № 416, л. 41об. Перевод с нем)
Последствия этого разговора не заставили себя ждать. 9 января 1840 года в Инспекторском департаменте военного министерства была начата переписка, закончившаяся 28 января высочайшим приказом о переводе Андрея Шувалова в Варшаву, адъютантом наместника польского- фельдмаршала князя Паскевича-Эриванского*. Но не о повышении по службе своего подопечного просила императрицу Загряжская, - Шувалову грозил перевод в армию. Обо всех закулисных действиях, сопутствовавших назначению его адъютантом Паскевича, рассказывается в письме императрицы к С. А. Бобринской, тоже беспокоившейся за судьбу молодого человека. "Потом я говорила с императором об Андрее Шувалове, - пишет императрица. - После многих попыток мне удалось его смягчить, и когда прошение об отставке будет доложено императору, он не согласится, но определит его к Паскевичу, чтобы дать ему возможность продолжать службу, не подвергая опасности свою больную грудь. Это самое большее из того, что было возможно. Но не говорите ничего матери, я этого решительно не хочу. Я говорю это только вам, чтобы, вселяя надежду, доставить вам маленькую радость"**.
* (ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 4, св. 1240, № 61. (Переписка не сохранилась.))
** (ЦГАОР, ф. 851, оп. 1, № 17, л. 79-79об. Перевод с фр)
Встревоженный тон императрицы, трудность, с какой ей удалось добиться у царя милости к сыну любимицы двора, осторожность, с какой она вела это дело, показывают, что положение было очень напряженным.
Какими-то трудностями сопровождался добровольный перевод в Кавказский корпус Дмитрия Петровича Фредерикса, товарища детских игр наследника, сына ближайшей подруги императрицы, известной баронессы Цецилии Фредерике. Морской офицер, недавно переведенный в гвардию и назначенный адъютантом к начальнику Морского штаба А. С. Меншикову, внезапно обнаружил "особую склонность к кавалерийской службе". Он просит своего начальника ходатайствовать о "всемилостивейшем дозволении ему перейти в кавалерию с состоянием при Кавказском корпусе". Так пишет Меншиков военному министру А. И. Чернышеву 6 марта 1840 года*. Со своей стороны, мать Фредерикса пишет о том же Чернышеву:
* (ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 4, св. 1242, № 507)
"Дорогой граф. Обращаюсь к вам, так как вполне уверена в Вашей дружбе и доброжелательном отношении ко мне. Пожалуйста, возьмите под свое покровительство моего старшего сына, он желает быть при Кавказском корпусе по кавалерии. Император был предупрежден князем Меншиковым, у которого он адъютант. Дело скоро дойдет до Вас, и я поручаю судьбу моего сына Вам, так как от Вас зависит исполнение его желаний; из дружбы ко мне, сделайте для моего сына то, что он просит, поддержите его, и этим Вы упрочите его будущее. Я сама бы приехала к Вам, но я совсем больна и нахожусь в тревоге, так как ребенок моей дочери умирает. Передайте привет графине, а Вас, дорогой граф, прошу быть покровителем моего сына"*.
* (ГБЛ, фонд А. И. Чернышева, 8/II 219, 9. Перевод с фр)
10 марта высочайший приказ о прикомандировании Фредерикса к Гребенскому казачьему полку был уже подписан. Почему же мать так горячо добивается у Чернышева покровительства ее сыну? Это показывает, что парь был недоволен Дм. Фредериксом и не выказал своего благоволения его родителям в такой трудный для них момент.
Удивляет также лаконичный тон письма императрицы к наследнику, уехавшему за границу 5 марта. Среди новостей, происшедших со времени его отъезда, она без всяких пояснений извещает о переводе Фредерикса на Кавказ, причем непосвященному читателю трудно разобраться, в чем существо этой новости: в том ли, что он уехал, или в том, что перевод на Кавказ был добровольным: "Митя Фредерике уехал на Кавказ с белым султаном*, гее по его доброй воле".
* (Белый султан - украшение на головном уборе офицеров кавалерийских полков)
Письмо написано 26 марта 1840 года*.
* (ЦГАОР, ф. 678, оп. 1, № 737, л. боб.- 6. Перевод с фр)
Таким же телеграфным стилем извещает М. П. Валуева П. А. Вяземского о переводе на Кавказ других "шестнадцати". 3 мая 1840 года она пишет из Петербурга в Москву:
"Лермонтов уехал, читайте его Княжну Мери. Красавец Столыпин вступает в Нижегородский драгунский полк, но по своей доброй воле. Грегуар Гагарин тоже едет на Кавказ, прикомандированный к Гану... Васильчиков и Серж Долгорукий тоже"*.
* (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1642, л. 17-18. Перевод с фр. Опубл. Ф. Ф. Майским в статье "М. Ю. Лермонтов и Карамзины".- В сб.: Михаил Юрьевич Лермонтов. Ставрополь, 1960, с. 126)
М. П. Валуева пишет, что Столыгшн-Монго вступает в Нижегородский полк добровольно. Но это только форма. Мы знаем, что Столыпину было приказано вновь вступить в военную службу, "в его лета стыдно оставаться праздным", - отозвался царь о секунданте Лермонтова в сентенции по делу о дуэли с Барантом. Остальное было сказано на словах Бенкендорфу: 6 мая 1840 года шеф жандармов направил военному министру А. И. Чернышеву официальную бумагу о том, что, согласно высочайшей сентенции, Столыпин "добровольно" вступает в Нижегородский драгунский полк, стоящий на Кавказе*.
* (ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 2, св. 1276, № 916)
Сообщение Валуевой не носит характера нового известия. Интонация письма показывает, что она рассказывает отцу о развязке уже известных ему событий. Какое было бы дело Вяземскому до отъезда на Кавказ молодых Васильчикова и Сергея Долгорукого, если бы они не были в одном кружке с его зятем - П. А. Валуевым?
Не гладко прошел и перевод на Кавказ А. Васильчикова. Его отец, председатель Государственного совета, обратился с официальным письмом к Гану, в котором, ссылаясь на "соизволение его императорского величества", просил о прикомандировании сына к возглавляемой им комиссии по административному переустройству Закавказья. Так же поступил в апреле обер-шталмейстер князь В. В. Долгорукий относительно своего сына Сергея. Но М. А. Корф приоткрыл завесу, описывая в своем дневнике некоторые обстоятельства дела Васильчикова*.
* (ЦГАЛИ, ф. 1268, № 26)
8 апреля 1840 года Корф пишет:
"Нельзя не повторить, что Ган мастер устраивать свои дела. Он едет, правда, за Кавказ: это решено; но едет уже не сенатором, а членом Государственного совета; и тот, который сперва наиболее тому противился...- словом, князь Васильчиков, наиболее теперь об этом хлопочет. Где не помогли ходатайства, там пособила ловкость Гана, и старик, с обыкновенным своим добро- и слабодушием, попал в тенета. Барон Ган предложил ему взять с собою за Кавказ его сына, молодого человека, теперь только выпущенного из университета, а рука руку моет, и выходит, что теперь уже Васильчиков должен искать в Гане"*.
* (ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1817, ч. , л. III 29)
В 1841 году Корф, узнав, что молодой Васильчиков был секундантом на дуэли Лермонтова, опять вспоминает прошлогодние обстоятельства: "Это тот самый молодой человек, которого барон Ган, в одолжение отцу, взял прошлого года в свою закавказскую миссию". При этом Корф называет Александра Васильчикова "беспокойным" молодым человеком*.
* (Там же, ч. IV, л. 250об. - 251)
Если председатель Государственного совета, фаворит Николая I должен был заискивать перед сенатором, чтобы уладить судьбу сына, значит, у Александра Васильчикова были серьезные затруднения.
Эти примеры заставляют нас отнестись с сомнением к делам остальных из "шестнадцати", о которых частная переписка не найдена. Основываясь только на официальных документах, выяснить подлинные причины выезда "шестнадцати" из Петербурга нельзя. В этом смысле удалось обнаружить только краткие сведения. Так, в январе 1840 года в списке добровольцев, ежегодно отчисляемых от каждого гвардейского полка в Отдельный кавказский корпус, появилась фамилия лейб-гусара А. Н. Долгорукого*. 26 марта вновь вступил в военную службу отставной капитан Н. А. Жерве. Он был определен в Отдельный кавказский корпус по представлению командира этого корпуса Е. А. Головина**. А по поводу назначения Ксаверия Браницкого адъютантом Паскевича сам фельдмаршал обратился в военное министерство 21 марта***. (Цитируется по описи, а самая переписка не сохранилась.) Но вот что предшествовало ходатайству Паскевича с Браницком.
* (Приказы по Отдельному гвардейскому корпусу)
** (ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 2, св. 1274, № 636, 26.III.1840 г)
*** (Там же, стол 4, св. 1242, № 577, 21.III.1840 г. (Переписка не сохранилась.))
Среди записок, которыми часто обменивались Николай 1 с Бенкендорфом, внимание привлекает одна, не датированная, но по содержанию упоминаемых в ней секретных бумаг относящаяся к концу декабря 1839 года или январю 1840-го. Это те документы, которые царь получал прямо из рук шефа жандармов, минуя официальные каналы. К их числу принадлежало перлюстрированное письмо "графа Браницкого к Мосцинскому", копию с которого Бенкендорф препроводил Николаю в переводе с польского на французский язык*.
* (ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. I, № 1467 (В), л. 15-15об. Перевод с фр)
Обнаружить посланное царю письмо пока не удалось. Но, и не зная подробностей, можно быть уверенными, что Браницкий уже был под пристальным надзором Бенкендорфа.
Неясны также причины неожиданного назначения И. С. Гагарина на внештатную должность секретаря посольства в Париже. 11 марта об этом еще ничего не было известно П. А. Вяземскому, который писал А. И. Тургеневу: "Сестра Гагарина идет замуж за Бутурлина. О нем также поговаривают, будто он женится на Ольге Трубецкой, но невероятно"*. А 16 марта того же 1840 года Вяземский уже пишет родным: "Иван Гагарин назначен вновь к парижской миссии, чему, кажется, очень рад, стало быть, не женится на Ольге Трубецкой"**. Эти письма не указывают на добровольное возвращение Гагарина в Париж.
* (ИРЛИ, ф. 309, № 4715, л. 107)
** (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 155)
Процесс постепенного разъезда членов кружка протекал с конца декабря 1839 года по апрель 1840-го. По времени он точно совпадает с обстоятельствами жизни Лермонтова. Перед Новым годом началась интрига против него в связи с интересом к нему французского посланника. Затем стихотворение "1-е января" производит неприятное впечатление на Бенкендорфа. В феврале ссора Лермонтова с сыном французского посланника Эрнестом де Барантом, дуэль с ним. В марте - апреле суд над Лермонтовым и Столыпиным за эту дуэль и высочайший приказ о переводе Лермонтова на Кавказ, подписанный 13 апреля.
Одновременность всех этих событий приводит к убеждению, что они связаны с раскрытием существования "кружка шестнадцати". Таким образом, обращение к более глубокому слою архивных материалов опрокинуло мой первоначальный вывод о добровольном разъезде "шестнадцати" из Петербурга. Очевидно, надо принять третий вариант гипотезы Б. М. Эйхенбаума: им "посоветовали" уехать.
Однако концепция ученого не ограничивалась вопросом об отношении властей к этому кружку. Б. М. Эйхенбаум наметил схему его предполагаемого идейного направления. В общих чертах она сводилась к следующему. Кружок вырос на почве оппозиционных настроений старинной родовой знати и подвергся воздействию историософских идей П. Я. Чаадаева. Поддержку этой гипотезе Эйхенбаум находил в творчестве Лермонтова: "прибавление" к "Смерти поэта", написанное в развитие идей "Моей родословной" Пушкина, было как бы провозглашено от лица группы единомышленников, а перекличка идей "Думы" Лермонтова с "Философическим письмом" Чаадаева подкрепляла мысль о влиянии московского мыслителя на петербургский кружок нового поколения. Живым посредником между ними был назван И. С. Гагарин, как давний знакомый Чаадаева.
Вопрос о влиянии на судьбу и творчество Лермонтова "кружка шестнадцати" ставил также в конце прошлого века публицист Н. Викторов (В. Л. Бурцев)*. Но он придавал решающее значение фигуре Ксаверия Браницкого, а не Гагарина. Исходя из последующей политической деятельности Браницкого, он устанавливал оппозиционный характер всего кружка, окрашивающий, по его предположению, всю гражданскую лирику Лермонтова. Никакими дополнительными материалами Викторов не располагал. "Если когда-нибудь, - писал он, - будут опубликованы тогдашние письма, дневники, записки лиц, знавших близко таких членов кружка шестнадцати, как Столыпин, Браницкий, мы узнаем много нового о тех влияниях, под которыми развивался и писал Лермонтов. Принадлежность к "кружку шестнадцати" не была для Лермонтова малозначащим эпизодом в его жизни, а определяла его отношение ко многим общественным и политическим вопросам". Так ли это?
* (Викторов (Бурцев) П. "Кружок шестнадцати". - Исторический вестник, 1895, № 10, с. 181)
Теперь мы можем выполнить пожелание Викторова, собрав письма и дневники отдельных членов кружка, узнав их настроения и убеждения. Сопоставляя эти новые материалы с творчеством Лермонтова, мы найдем ответ и на поставленные вопросы о степени влияния на него "кружка шестнадцати".
2
30 сентября 1839 года И. С. Гагарин писал из Москвы П. А. Вяземскому в Петербург:
"После отъезда императора и великих князей Москва вновь обрела свое спокойное и безмятежное лицо. Я сейчас нахожусь в деревне, в большой комнате, где меня окружают Сборник, Патерик и другие почтенные творения и откуда я вдосталь наслаждаюсь осенним пейзажем. Вокруг меня три точки, которые притягивают меня к себе попеременно: Узкое, где обитает госпожа С. Апраксина, Валуево, где живет графиня Эмилия*, и Москва, где никто не живет, хотя там можно встретить колоссальное количество ворон и сорок, несколько прехорошеньких молодых особ и небольшое число мужчин блестящего ума. Они отличаются громадным достоинством уметь сохранять пыл и живость в своих идеях, не черпая для них пищи нигде кроме как в самих себе. Тут собираются скоро организовать балы и литературные вечера, но до сих пор, по остроумному замечанию одного московского философа, берет верх центробежная сила. Кстати о литературе: Соллогуб едет сегодня или завтра в Казань вместе с Григорием: союз романиста и художника для использования couleur locale**. Я ими восхищаюсь, но сам не имею мужества встретиться с дурными дорогами, холодом и клопами"***.
* (Эмилия Карловна Мусина-Пушкина)
** (Местный колорит (фр.))
*** (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1702. Перевод с фр)
"Московский философ" - это П. Я. Чаадаев, "мужчины блестящего ума", создающие умозрительные теории,- зарождающиеся славянофильские кружки во главе с Иваном Васильевичем Киреевским и А. С. Хомяковым.
Гагарин пишет далее Вяземскому, что собирается обосноваться в Петербурге с ноября - декабря. И верно, 12 ноября А. И. Тургенев записывает в своем дневнике: "У нас* кн. Ив. Гагарин, о Москве, и о Чаадаеве: о православии Киреевского"**.
* (А.И. Тургенев жил в это время у Вяземских (см. ниже))
** (ИРЛИ, ф. 309, № 319)
Григорий Гагарин и Соллогуб вернулись в Петербург уже зимой. 26 января 1840 года А. Тургенев встретил художника у Валуевых, а 13 февраля П. А. Вяземский писал в Баден: "Соллогуб ездил по России с Григорием Гагариным, и они готовятся издать свои impressions de voyage* под именем Тарантас. Говорят, что иллюстрации Гагарина, удивительная прелесть. Я их еще не видал"**.
* (Дорожные впечатления (фр.))
** (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3217, л. 139об., 140)
В своих поздних воспоминаниях Соллогуб, совершенно утративший к этому времени былую литературную! славу, стремился убедить читателей, что он никогда не был профессиональным писателем. В пример он приводил "Большой свет", написанный "по случаю", а насчет "Тарантаса" уверенно сообщал, что эта повесть выросла из подписей к рисункам Г. Гагарина. Теперь мы видим, что это неверно. Впервые из писем И. Гагарина и П. А. Вяземского мы узнаем, что Соллогуб ездил в Казань вместе с Гагариным с ясно выраженной целью совместно создать художественное произведение.
Первые семь глав "Тарантаса" были напечатаны в октябрьской книге "Отечественных записок" 1840 года без рисунков Гагарина. Однако в редакционном примечании было указано, что в скором времени полная редакция повести (20 глав) выйдет "особым изданием с множеством политипажей, рисованных нарочно для него князем Гагариным". Это иллюстрированное издание вышло только в 1845 году, но имя художника означено не было. Впоследствии это породило так называемую "проблему "Тарантаса"". Была выдвинута версия, что большинство рисунков принадлежит карандашу А. Агина. В настоящее время искусствоведом А. Савиновым доказано, что иллюстрации "Тарантаса" приписывались иллюстратору "Мертвых душ" совершенно необоснованно, и утверждено авторство Григория Гагарина*. Доводы Савинова подкрепляются неоспоримыми документальными свидетельствами, приведенными выше. Рецензируя издание "Тарантаса" 1845 года, В. Г. Белинский назвал анонимного иллюстратора "великим художником, знающим Россию". Гораздо сложнее было отношение критика к писателю В. Соллогубу.
* (Савинов А. Лермонтов и художник Г. Г. Гагарин. - Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 433-472)
Начиная с 1840 года, когда в "Отечественных записках" появились первые семь глав "Тарантаса", Белинский хвалил это произведение, причисляя его к прогрессивным явлениям современной литературы. Положительно отозвался он и о полном издании повести. Но это была уже другая эпоха, когда идеологическая борьба между двумя течениями русской общественной мысли - "западничеством" и "славянофильством" - достигла самого высокого напряжения. "Тарантас" послужил новым поводом для определения позиций враждующих лагерей. В. Г. Белинский написал свой знаменитый памфлет на вождя славянофилов И. В. Киреевского, воспользовавшись тем, что его именем и отчеством Соллогуб назвал главного героя. "Иван Васильевич" решился изучать Россию с высоты своих умозрительных теорий о величии и самобытности русского народа и о вреде, нанесенном России европейской цивилизацией.
Бурная полемика, разгоревшаяся вокруг "Тарантаса" в 40-х годах, заслонила тот факт, что повесть эта, так же как и рисунки Гагарина, была целиком готова еще в 1840 году.
В "Тарантасе" есть признаки, по которым можно судить, что герой повести списан не прямо с И. В. Киреевского и что образ мыслей его заимствован Соллогубом не полностью у славянофилов 40-х годов, а взят из какого-то другого источника. Иван Васильевич предстает перед читателем как тип европеизированного русского патриота. Эта специфическая смесь не была характерна для Киреевского, Хомякова и Самарина, давно не выезжавших в Западную Европу и не состоящих на службе. Автор имеет в виду "государственных юношей". "Прежде,- пишет он, - когда молодой человек возвращался из Парижа, он необходимо должен был привозить с собою наружность парикмахера, несколько ярких жилетов, необыкновенное хвастовство и разные несносные ужимки. Благодаря бога все это вывелось. Но теперь другая крайность: теперь молодежь наша прикидывается глубокомысленною, и как бы вы думали? - за границей делается она русскою, даже чересчур русскою, думает только о России, о величии России, о недостатках России и возвращается на родину с каким-то новым фанатизмом, который иногда преувеличен и смешон, но все-таки похвальнее прежнего ничтожества. Из-за границы привозят наши государственные юноши только горячий восторг к парижской и итальянской опере. Все прочее дрянь".
В полном издании все это описание несколько смягчено, выражение "новый фанатизм" заменено выражением "странный восторг", а прямому указанию на "государственных юношей" придан обобщенный характер: "...наподобие прочих наших государственных юношей привез он из-за границы горячий восторг к парижской опере и нежные воспоминания о парижских загородных балах". Встречаются в повести и другие текстуальные изменения, приближающие ее к тематике идеологических споров 40-х годов. Журнальный же вариант отражает злободневную для Лермонтова атмосферу. Он прямо адресован реальным "государственным юношам". Кто же они?
Прежде всего - оба брата Гагарины, которым принадлежал замысел "Тарантаса" наравне с Соллогубом. Иван Гагарин только по барственной лени не поехал вместе с художником и писателем по России для изучения местных обычаев. Но зато он окружил себя древнерусскими книгами (Сборник и Патерик), погружаясь в истоки русской национальной культуры. "Я видел парижского Гагарина. Это весьма замечательный человек, - писал младший брат И. В. Киреевского, студент А. Елагин.- Гагарин дипломат, франт и между тем ходит каждый день на Никольскую покупать старые книги. Это замечательно. По-русски говорит он дурно, по-французски так хорошо и скоро, что не поймешь. Сболтнет фразу, так что и не расслушаешь, а между тем на Никольскую ходит"*.
* (ГБЛ, ф. 99)
Григорий Григорьевич Гагарин тоже был на дипломатической службе - так же, как и его отец. Поэтому он воспитывался за границей, много лет жил в Италии, в конце 30-х годов служил в дипломатической миссии в Турции. Из Константинополя он вывез интерес к византийской архитектуре и много зарисовок.
В 1838-1839 годах братья Гагарины дышат атмосферой парижских литературных и политических салонов.
"Я часто видаюсь здесь с князем Иваном Гагариным,- писал из Парижа А. И. Тургенев П. А. Вяземскому 9 апреля 1838 года. - Он попал в первоклассные фешьонэбль и имеет на то полное право: богат, умен, любезен и любопытен. Здесь он опять проветрился и освежился. И в Лондон не тянет его; но мой совет - здесь не заживаться, а, узнав Париж от кедра до иссопа, возвратиться на вечно зеленеющий остров и там выдержать душу и ум в живительной атмосфере, напитаться ею и направить путь в Москву"*.
* (Остафьевский архив князей Вяземских, т. IV. СПб., 1899, с. 39)
Иван Гагарин прислушивался к советам Тургенева. "Я еще не знаю, что буду делать, - писал он из Парижа Ю. Ф. Самарину 7 апреля 1838 года. - Может быть, скоро буду в Москве"*. Побывав в Англии, он вернулся осенью во Францию. "Князь Гагарин уже в Париже. К нему пиши", - сообщает оттуда А. Тургенев 3 октября 1838 года Вяземскому. Через две недели Тургенев опять упоминает в письме из Парижа "Гришу Гагарина и Жана"**.
* (ГБЛ, ф. 265. Письма И. С. Гагарина к Ю. Ф. Самарину)
** (См. примеч. 32, с. 46, 49)
Григорий и Иван Гагарины были связаны не только родственными, но и дружескими узами.
Приехав в Петербург в 1839 году, оба Гагарина постоянно бывали в доме Вяземского на Б. Морской. На верхнем этаже жили Валуевы, в квартире самого Вяземского, как уже говорилось, остановился А. И. Тургенев, приехавший из Парижа 11 августа 1839 года. Все они постоянно встречались с Карамзиными, у которых так часто бывал Лермонтов.
В своих письмах Вяземский нередко упоминает о присутствии на его вечерах Ивана Гагарина. Тургенев отмечает в своем дневнике встречи с Григорием Гагариным в домах, где идут беседы об искусстве, например о древней и современной русской архитектуре. Лермонтов редко бывает на вечерах у Вяземского, но сближается с А. Тургеневым, посещает его, выезжает вместе с ним к общим знакомым*. У Валуевых Лермонтов бывает часто, обычно вместе с Карамзиными. Однако, при широком круге знакомств, Вяземский, перечисляя в письме к родным своих гостей, все же выделяет 30 ноября "валуевскую молодежь". При этом он называет три имени: "Шувалов, Жан Гагарин, Соллогуб". В предыдущем письме, 25 ноября, он писал: "Иван Гагарин, Лев Соллогуб** и Шувалов неразлучны. Софья Карамзина говорит, что если-бы их объединить, они составили бы вместе одного неотразимого молодого человека: Гагарин умеет говорить, Шувалов опускать глаза, Соллогуб вздыхать". В этих письмах, несомненно, отражена сплоченность членов "кружка шестнадцати".
* (Мануйлов В. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. М. - Л., Наука, 1964, с. 107-110)
** (Старший брат писателя)
Обстановку на половине Валуевых характеризует письмо Вяземского от 9 января 1840 года.
"Вверху после отъезда Родольфа утихло,- пишет он, - а то при нем между братьями всегда были ученые, богословские, нравственные, светские прения. О каждом слове начинал он рассуждение и готов был спорить целый день. Лягут спать, на другое утро, как только встанет, начнет он с той точки, на которой накануне остановились"*.
* (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 97об., 99об., 122об)
Фраза Вяземского о диспутах "вверху" иллюстрируется записью в дневнике П. А. Валуева: "Спор о национальности заставляет меня изложить на бумаге свое мнение по этому вопросу, хотя бы для того, чтобы отдать самому себе ясный отчет в том, как я на это смотрю.- Начато 6 декабря 1839 года". Эпиграфом к этой записи Валуев ставит перефразированную известную латинскую поговорку: "Amicus Gagarinus, magis arnica Veritas" - "Гагарин друг, но больший друг истина"*.
* (ЦГИА, ф. 908, оп. 1, № 4, л. 41, 41 об)
Спор о национальности - это тематика "Тарантаса". И. С. Гагарин не только информировал петербургских знакомых об идеях И. В. Киреевского и его антагониста П. Я- Чаадаева, но развивал свои самостоятельные взгляды. Так, Валуев решительно возражает против отождествления политического понятия государства с внутренней национальной культурой. "Мы в нашем споре совсем не так поняли слово национальность", - пишет он. Валуев убеждает своего собеседника принять более широкое и прогрессивное определение: "Применяя это слово к внешним политическим формам, ограничивая национальность рубежами, установленными правительством, сводя ее, так сказать, только к костюму, маске, под которой народ появляется в политическом мире, забывают, мне кажется, основные элементы национальности, занимаются тем, что восстанавливают на зыбучем песке дипломатические переговоры, то есть здание, фундамент которого должен покоиться на внутренней жизни, нравах и истории нации. Я думаю, что мы употребляли слово национальность в том смысле, которым обозначают национальный дух, национальные обычаи, национальные песни".
Свои мысли о национальности Валуев хочет "представить одобрению" Гагарина. Между тем, судя по письмам И. С. Гагарина к Ю. Ф. Самарину 1838-1842 годов, у него были другие идеи. Он придавал особый, мессианский смысл завоевательным тенденциям европейских государств. Их внешнюю политику он рассматривает с выспренних философских позиций.
России Гагарин отводит высокую роль наследницы умирающей европейской культуры. "И если старая Европа должна погибнуть, - пишет он, - если бы у нас Мысль должна была расцвести самым пышным цветом, - это было бы лишним доводом, чтобы не отделяться от этого источника света и кропотливо собирать все ценности цивилизации, стать ее достойными наследниками"*.
* (См. примеч. 33)
О влиянии личности Ивана Гагарина на атмосферу споров в "кружке шестнадцати" можно судить по тому огромному значению, которое он придавал всякому обмену мнениями. Он исповедовал подлинный культ творческой дружбы, вкладывая и в эту сторону интеллектуальной жизни свойственный ему пафос. "Ваше письмо доставило мне большую радость, мой друг, - пишет он Ю. Ф. Самарину, - и я припоминаю, что, читая его, я ощущал вокруг как бы аромат одной из великих дружб XV и XVI веков, когда дружеские признания разрешали великие проблемы науки, порождали произведения искусства, откровения человеческого разума... как знать? открытие Америки или реформу Лютера? Такие дружбы долговечны и плодотворны: они основаны не на сходстве привычек, не на случайностях человеческой судьбы или на общности второстепенных интересов. Они связывают умы и воли более могущественными узами. Такова дружба, связывающая и нас, и хотя мы с вами не Лютер, не Эр'азм, не Христофор Колумб, великие имена, перед которыми почтительно склоняется потомство, вопросы, обсуждаемые нами, велики. Светочи человечества, которые принесли на землю долго и пламенно ожидавшееся решение вечных проблем, имели на этом поприще предшественников, вопрошавших будущее и подготовивших их творения, и я смею надеяться, что их труды не были бесполезны перед лицом Истины". Тут знаменательно уподобление двух русских друзей, ищущих "Истину", деятелям европейского Возрождения.
Вопросы о национальном возрождении России обсуждались И. С. Гагариным со своими друзьями и в социально-экономическом плане. В. А. Бильбасов, знакомившийся с дневниками И. С. Гагарина 30-х годов, дает такую характеристику тогдашних взглядов будущего иезуита: "Он не видел совершенства в западноевропейском строе жизни, сознавая уродливое развитие русского строя, и готов был посвятить все свои силы на служение родины, горячо им любимой. Как Чаадаев и Самарин, он признавал необходимость прежде всего освобождения крестьян, причем дальнейшие задачи должны быть указаны требованиями самого освобожденного народа, а не западными теориями и не русскими вожделениями рабовладельцев"*. Тут есть указание или на конституцию, или на Земский собор - пункты, как известно, привлекавшие и декабристов в их конструктивных планах. А в выдержке из дневника Гагарина, приведенной В. А. Бильбасовым, есть намек на способность "верных сынов" родины к большим жертвам для ее внутреннего переустройства. "Тебе, отчизна, посвящаю я мою мысль, мою жизнь, - пишет он. - Россия, младшая сестра семьи европейских народов, твое будущее прекрасно, велико, оно способно заставить биться благородные сердца. Ты сильна и могуча извне, враги боятся тебя, друзья надеются на тебя; но среди твоих сестер ты еще молода и неопытна. Пора перестать быть малолетнею в семье, пора сравняться с сестрами, пора быть просвещенною, свободною, счастливою. Положение спеленатого ребенка не к лицу уже тебе: твой зрелый ум требует уже серьезного Дела. Ты прожила уже много веков, но у тебя впереди более длинный путь, и твои верные сыны должны расчистить тебе дорогу, устраняя препятствия, которые могли бы замедлить твой путь".
* (Бильбасов В. А. Ю. Ф. Самарин и И. С. Гагарин. - Новое слово, 1894, кн. 2, с. 39)
В. А. Бильбасов относит эту запись к 1833-1834 годам. Но круг вопросов, обсуждавшихся Гагариным в Петербурге в 1839 году, не изменился. "Я прошу Вас,- обращается к нему в своей книге "Славянские национальности" Ксаверий Браницкий, - читая мою книгу, отнестись к одному из "шестнадцати" с той снисходительностью, к какой вы привыкли 40 лет тому назад, когда мы оба, юные и гордые, разрешали вопросы, которыми мы были озабочены тогда и озабочены всегда. Только теперь пронесшиеся над нами годы сделали более зрелыми наши суждения, и мы не принимаем уже за действительность мечты необузданного воображения".
Постоянным интересом обоих Гагариных было творчество Лермонтова. Художник Гагарин доказал это своим сотрудничеством с поэтом на Кавказе. Иван Гагарин следил за выступлениями Лермонтова и тогда, когда он уехал весной 1840 года из России. 30 декабря (старого стиля) 1840 года он пишет Ю. Ф. Самарину из Парижа: "На днях я получил поэмы Лермонтова: они прекрасны. Здесь у нас нет ничего значительного, исключая выборов в Академию. Вы знаете, что после жестоких боев и стычек прошел В. Гюго..." Речь идет о новой книге "Стихотворений" Лермонтова, которую Гагарин, как видим, сопоставляет с самыми выдающимися явлениями европейской литературной жизни.
4 июня 1841 года Александр Тургенев записывает в парижском дневнике: "В три часа за мною кн. Гагарин, и мы поехали в Сент-Дени... и чрез Сент-Дени в 1/2 часа доехали. Отыскали Теплякова, гуляли в аллеях, на берегу пруда... Гуляли после обеда до 8 час., читали стихи Лермонтова о Наполеоне"*.
* (ИРЛИ, ф. 309, № 319)
Первым импульсом Самарина при получении известия о гибели Лермонтова было написать Ивану Гагарину.
Совершенно очевидно, что, встречаясь в 1840 году в Петербурге и на Кавказе с Гр. Гагариным, Лермонтов был досконально знаком с его рисунками к "Тарантасу". Сатирический дар художника проявился в изображении картин губернской России. Ярким проявлением критической мысли Гагарина была, конечно, знаменитая заставка к четвертой главе "Станция", где буква "К" изображена в виде двух могучих крестьянских рук, высунувшихся из окна нищей избы и поддерживавших ампирную колоннаду. Гагарин шел дальше Соллогуба в понимании социальных и политических противоречий, тормозивших развитие России. Указывалось уже, что в своих общественно-политических взглядах он был ближе к Лермонтову, чем к Соллогубу. Но это не мешало творческому союзу обоих авторов "Тарантаса" - характерная картина для тогдашних кружков, не определившихся еще в прямой идеологической борьбе. Поэтому личные связи Лермонтова с братьями Гагариными и другими членами общества "шестнадцати" не влияли непосредственно на его отношение к затрагиваемым в его творчестве вопросам. Но споры с ними были активным стимулом для быстрейшего самоопределения поэта.
Полемика была для Лермонтова одним из самых мощных творческих возбудителей. Многие заимствования в его стихах, заставлявшие современников называть его подражателем, раскрыты исследователями как литературный прием, заключавший в себе элементы внутренней полемики. Особенно много наблюдений такого рода накопилось при сопоставлении поэзии Лермонтова и Пушкина. Измененная цитата, переиначенная всегда с ясно осознанной целью "померяться" с Пушкиным, подчеркнуть разницу в мировосприятии, - такова излюбленная манера Лермонтова. По мере того как изучение его творчества становится более глубоким, обнаруживаются элементы полемики поэта и с другими авторами. Так, стихотворение "Благодарность" с его замечательным образом- "жар души, растраченный в пустыне" - возникло, по наблюдению Б. Бухштаба, из внутренней полемики с "Молитвой" В. Красова, с ее "религиозно-сентиментальным оптимизмом"*. Полемический толчок не только не мешал, но помогал поэту создавать на этой почве самостоятельное художественное произведение, отмеченное тем, что Белинский называл "неповторимым лермонтовским" началом. С этим мерилом мы должны вновь подойти к стихотворению "Родина", вышедшему из той же среды и в то же время, что и "Тарантас".
* (Бухштаб Б. "Благодарность". - Литературное наследство, 1952, № 58, с. 408)
Назвать "Родину" полемическим стихотворением - значит ломиться в открытую дверь. Поэт сам начинает его с экспозиции, в которой определяет отличие своего понимания патриотизма от других точек зрения. Однако вступительные строки "Родины", казалось бы такие ясные, подвергались самым различным толкованиям.
Начать с того, что первые биографы и комментаторы Лермонтова находили элементарное объяснение первым же двум строкам "Родины" ("Люблю отчизну я, но странною любовью! // Не победит ее рассудок мой"). Они были убеждены, что Лермонтова конкретно кто-то упрекал в отсутствии любви к отчизне. Предположение невероятное, потому что Лермонтов был ярко выраженным патриотом. Скорее, его можно было бы упрекнуть в некотором налете шовинизма, иногда проглядывавшем в его творчестве и личном поведении. Каждая из дальнейших строк экспозиции расшифровывалась тоже по-разному.
Строка "Ни полный гордого доверия покой" была понята одними как отрицание патриархальных идей помещиков, "привязанных к своим крепостным", "их веры в незыблемость крепостнических отношений". Другие, как, например, Н. А. Добролюбов, понимали ее как олицетворение "величавого покоя государства".
Между тем ключ к пониманию этой строки дан самим Лермонтовым в стихотворении, где красота любимой женщины сравнивается с образом ее родины. Речь идет о стихотворении "На светские цепи", посвященном М. А. Щербатовой. Последовательно сравнивая облик героини с украинскими степями, ночами и небесами, поэт переходит к характеристике ее внутреннего облика: "И, следуя строго печальной отчизны примеру,// В надежду на бога хранит она детскую веру;//Как племя родное, у чуждых опоры не просит// И в гордом покое насмешку и зло переносит". Нетрудно заметить, что "полный гордого доверия покой" является развернутым образом "гордого покоя", обозначающим одно и то же свойство: смирение угнетенного народа*. У Соллогуба этот образ, как уже говорилось, выражен в фразе "спокойствие и сознание силы".
* (Это мое наблюдение повторено без ссылки на первоисточник в статье Э. Э. Найдича "Стихотворение "М. А. Щербатовой" (Лермонтов и Е. Н. Гребенка)". - В кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., Наука, 1979, с. 407-408)
"Темной старины заветные преданья" расшифровываются одними исследователями как "доктрина славянофилов, видевших величие отчизны в ее верности православию и порядкам допетровской Руси"*, другие видят в отрицании Лермонтова "неприятие традиционно-романтического воспевания парадной стороны русской жизни"**. Н. А. Добролюбов толковал ее как отказ Лермонтова от исторических ассоциаций (равнодушие к "преданьям темной старины, записанной смиренными иноками летописцами").
* (Лермонтов М. Ю. Поли. собр. соч., т. 1. М., Правда, 1953, с. 399)
** (Лермонтов М. 10. Собр. соч. в 4-х томах, т. 1. М., Изд во АН СССР, 1959, с. 699)
Строка "Ни слава, купленная кровью", не допускающая разнотолков, нашла, однако, дополнительное разъяснение. В. И. Кулешов, занимаясь историей "Отечественных записок", нашел в лермонтовском стихотворении возражение против "официальных верноподданнических заявлений А. А. Краевского"*.
* (Кулешов В. И. "Отечественные записки" и литература 40-х годов XIX в. М., 1958, с. 50)
Все эти различия не так велики и указывают на жизненность поэтических образов Лермонтова, в которых он обобщил основные политические течения общественно- исторической мысли своего времени.
Но трудно воспринимать лирическое стихотворение как политическую декларацию. "Родина" представляет собой внутренний диалог с невидимым собеседником. Мог ли вызывать творческое волнение поэта литературный спор с Кукольником и прочими писателями казенно- патриотического толка? Ясно, что Лермонтова возбуждали не эти противники, а люди, с мнением которых он считался и с которыми не раз обсуждал самые острые проблемы современности.
В поисках живых адресатов стихотворения Лермонтова надо учесть, что заключенная в нем полемика выражена не только во вступительной строфе, а пронизывает все стихотворение целиком. По наблюдению Б. М. Эйхенбаума, в строке "...я люблю - за что, не знаю сам" Лермонтов противопоставляет свое непосредственное чувство любви к отчизне умозрительному хомяковскому "и вот за то, что ты смиренна", обращенному к России в стихотворении 1839-1840 годов "Гордись, тебе льстецы сказали. .."*.
* (Эйхенбаум Б. М. Статьи о Лермонтове. М. - Л., Изд-во АН СССР, 1961, с. 105-106)
Сопоставление очень убедительно, но протянуть эту связь к остальным образам стихотворения Лермонтова невозможно. К кому обращен, например, выпад поэта в строках "С отрадой многим незнакомой*// Я вижу полное гумно,// Избу, покрытую соломой,// С резными ставнями окно...". Славянофилы, показавшие столько любви и интереса к народному быту и обрядам, проводя много месяцев в году в своих поместьях, по-своему сближались с крестьянами. Упрек в нелюбви к деревне ими не заслужен. Мне уже приходилось указывать, что Лермонтов противопоставляет в приведенных строках свою кровную связь с русской деревней отчужденности "полуфранцуза" Шувалова, "парижского Гагарина", "француза в душе" Кс. Браницкого**. При сопоставлении "Родины" с "Тарантасом" эта полемическая связь поддерживается и в других строках лермонтовского стихотворения.
* (Курсив мой. - Э.Г.)
** (Герштейн Эмма. Лермонтов и кружок "шестнадцати". - Литературный критик, 1940, № 10-11, с. 263-264)
При всей любви к русской самобытности, Иван Гагарин, как мы помним, не решился подвергнуться случайностям отечественного бездорожья. С таким же страхом относился к поездкам по России и П. А. Вяземский.
"Я давно не ездил по русским дорогам, - пишет он родным 14 мая 1840 года, - и мои последние дорожные впечатления, кроме петербургского шоссе, совершенно европейские, а особенно английские. Да уж и признаюсь, странное действие производили на меня эти беспутные дороги, которые только от того и дороги, что по ним ездят: рытвины, овраги, косогоры, где едешь вброд, где по мосту, который сам бродит под каретою. Это действовало на мои европейские нервы, изнеженные правильными шоссеями, и я двадцать раз думал, что карета опрокинется, но вселенские языки ведайте: велик российский бог! Есть бог для детей, есть бог для пьяниц, есть бог для России, бог ухабов, бог мятели, бог испорченных дорог, как сказано одним остроумным поэтом"*.
* (ЦГАЛИ, ф. 195, он. 1, № 3217, л. 180-180об)
Вяземский цитирует здесь свое знаменитое стихотворение 20-х годов "Русский бог". Соллогуб тоже мог бы процитировать свой ранний рассказ "Сережа".
"Но вот начинается настоящее вам горе, - читаем там, - пропали вы совсем: вы сворачиваете с большой дороги и едете проселком. Горе вам, горе, горе, горе! Дорога делается хуже, вольных лошадей и неволею едва ли придется вам достать. Грязно, скучно, досадно!.."
Парадоксально звучит на этом фоне строка Лермонтова из "Родины": "Проселочным путем люблю скакать в телеге..."
"...И, взором медленным пронзая ночи тень,// Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,// Дрожащие огни печальных деревень..."
Этот пейзаж дан совсем в другом ключе у Соллогуба ("Сережа"): "Перед ним далеко расстилалось снежное поле, кое-где прикрытое мелким ельником, - картина вам знакомая. Вправо мелькали две-три избенки, согнувшись как старушки за бостоном. Небо было серое; воздух был холодный. Телега катилась по тряской дороге, а путешественник терялся в мечтах и... потирал себе бока".
Еще отчетливее разница в восприятии русской природы между Лермонтовым и Соллогубом прослеживается по самому "Тарантасу". "Окрестность мертвая; земли, земли, земли столько, что глаза устают смотреть; дорога скверная... по дороге идут обозы... мужики ругаются... вот и все..." - читаем в восьмой главе. "Никогда время не идет так медленно, как в дороге, в особенности на Руси, где, сказать правду, мало для взора развлеченья, но зато много беспокойства для боков, - находим в одиннадцатой главе. - Напрасно Иван Васильевич старался отыскать малейший предмет для впечатления. Все кругом безлюдно и безжизненно. Прошел им навстречу один только мужик с лаптями на спине, да снял им шапку из учтивости..." Приведем пейзаж последней главы: "Голая степь раскинулась, растянулась во все стороны, как скованное море... Тощий ковыль едва колыхался от широкого размета ничем не обузданного ветра... В целой природе дышало таинственное, унылое величие. Все напоминало смерть и в то же время сливалось в какое-то неясное понятие о вечности и жизни беспредельной". Финал известен: тарантас опрокинулся.
А для Лермонтова и холодное молчанье степей, и ночующий обоз, и говор пьяных мужичков были полны жизни, которую он любил непосредственно, не по обязанности и не по выводу рассудка. Простота и органичность его чувства противопоставлены и умозрительным доктринам Хомякова, и выспренности Ивана Гагарина, так же как и его барственной брезгливости, родственной барственной же насмешливости Соллогуба и Вяземского.
Скажут, что "Тарантас" - пародийное произведение, в котором все детали подчинены основному сатирическому замыслу. Но "путевые впечатления" Григория Гагарина и Владимира Соллогуба помимо полемической цели имели и свое самостоятельное значение. Художник изобразил русские типы сатирически, Соллогуб скрыл свое лицо, предоставив спорить между собою двум героям - вполне "самобытному" помещику-крепостнику и Ивану Васильевичу, смешному в своем натянутом, фальшивом патриотизме. Однако подлинное лицо писателя проглядывает в его всеядной насмешливости и в пейзажах, написанных с надменным превосходством просвещенного барина. В результате чтения "Тарантаса" Россия предстает скучной, унылой, безнадежной страной. Этой эмоциональной окраске повести Соллогуба противостоит панорама родных лесов, степей и полей, с такой любовью нарисованная в "Родине".
3
Свое беглое замечание о "шестнадцати" Валуев, как мы помним, связал с лейб-гусарским полком, куда был прикомандирован в 1838 году А. П. Шувалов.
Лейб-гусарский полк славился своими традициями. Некогда там служили П. Я. Чаадаев, Денис Давыдов, приятель Пушкина П. П. Каверин. В полку сохранялся культ Пушкина.
24 февраля 1837 года А. И. Тургенев записал в своем дневнике: "Лермонтова стихи навлекли гоненье и на гусарский полк"*.
* (Дневник А. И. Тургенева. - ИРЛИ, ф. 309, № 316, л. 15об. Ср.: Боричевский И. Пушкин и Лермонтов в борьбе с придворной аристократией. - Литературное наследство. 1948, № 45-46, с. 346)
Лейб-гусарскому полку посвящена специальная строфа в "Тамбовской казначейше":
Родов, обычаев боярских Теперь и следу не ищи, И только на пирах гусарских Гремят, как прежде, трубачи. О, скоро ль мне придется снова Сидеть среди кружка родного С бокалом влаги золотой При звуках песни полковой! И скоро ль ментиков червонных Приветный блеск увижу я, В тот серый час, когда заря На строй гусаров полусонных И на бивак их у леска Бросает луч исподтишка!
Первая строка представляет собой измененную цитату из "Родословной моего героя" Пушкина, напечатанной в октябрьском томе "Современника" за 1836 год:
Мне жаль, что тех родов боярских Бледнеет блеск и никнет дух; Мне жаль, что нет князей Пожарских, Что о других пропал и слух, Что их поносит и Фиглярин...
Эта связь показывает, что гусарские пиры воспеты Лермонтовым не за "шалости", а за сохраняющийся в этом полку традиционный дух независимости. Лермонтов говорит о преемниках того "гусарства", которое еще при Денисе Давыдове служило своеобразной формой протеста против аракчеевщины*. Недаром в молодости Пушкин и его друзья, как свидетельствует один из современников, "воспитанные во время наполеоновских войн, под влиянием героического разгула этой эпохи, щеголяли воинским удальством и каким-то презрением к требованиям гражданского строя". "Пушкин, - продолжает мемуарист,- как будто дорожил последними отголосками беззаветного удальства, видя в них последние проявления заживо схороняемой самобытной жизни"**. Верность этого замечания можно подтвердить словами самого Пушкина. В 1836 году он упоминал в письме к жене о былом своеволии гвардейских гусар, все-таки предпочитая его расчетливой трезвости великосветской молодежи новой формации. Саркастически отзывался он о "благоразумии молодых людей" (имея в виду офицеров кавалергардского полка), "которым плюют в глаза, а они утираются батистовым носовым платком, смекая, что если выйдет история, так их в Аничков не позовут"***.
* (См.: Орлов В. Н. Пути и судьбы (Денис Давыдов). М. - Л., 1963, с. 72-74)
** (Вяземский П. П. Собр. соч. СПб., 1893, с. 547)
*** (Письмо к Н. Н. Пушкиной от 18 мая 1836 г.- Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 16-ти томах, т. XVI. М. - Л., Изд-во АН СССР, 1949, с. 117)
Конечно, не к этой раболепствующей перед двором молодежи обращался Пушкин, когда искал сочувствия нового поколения своим выступлениям в "Современнике". Между тем до нас дошло свидетельство Н. М. Смирнова, что, когда в "Современнике" был напечатан "Полководец", Пушкин спрашивал молодого Россета (учившегося в Пажеском корпусе), как находят эти стихи в его кругу между военною молодежью, и прибавил, что он не дорожит мнением знатного светского общества"*. Таким образом, намек в "Тамбовской казначейше" о "боярских родах и обычаях" в гусарском полку, который можно было бы примять за простую реминисценцию, в действительности помогает раскрыть систему взглядов Лермонтова.
* (Заметки Н. М. Смирнова в передаче П. Бартенева. - Русский архив, 1882, № 1, с. 245)
В двадцать девятой строфе "Тамбовской казначейши" Лермонтов указывает на ту среду, где с сочувствием прислушиваются к общественно-политическим выступлениям Пушкина в "Современнике" и разделяют его взгляды.
В "Родословной моего героя" строфа о боярских родах подготовлена строками о традициях русской старины, связываемой Пушкиным со "звуками нашей славы". В этой строфе он пишет:
Но каюсь: новый Ходаковской, Люблю от бабушки московской Я толки слушать о родне, О толстобрюхой старине.
В "Тамбовской казначейше" повторен тот же композиционный ход. Описывая в двадцать восьмой строфе провинциальный праздник с его "хором уланских трубачей", Лермонтов заключает это описание афоризмом, понятным только при сопоставлении с приведенными пушкинскими строками:
...Обычай древний, но прекрасный; Он возбуждает аппетит, Порою кстати заглушит Меж двух соседей говор страстный - Но в наше время решено, Что все старинное смешно.
Непосредственно следующее за этим упоминание о "боярских обычаях", сохраняющихся только на гусарских пирах, совершенно очевидно (по ассоциации с приведенными пушкинскими стихами) содержит в себе намек на патриотические традиции, остающиеся еще живыми в этом полку.
Со строфами "Тамбовской казначейши" надо сопоставить еще одно стихотворение Лермонтова, посвященное гусарам.
Как видно из автографа, послание "К Н. И. Бухарову" родилось из четырех строк, ставших потом заключительными. Лермонтов с них начал, потом зачеркнул, написал новое стихотворение и закончил его первоначально возникшей у него под пером строфой:
Столетья прошлого обломок, Меж нас остался ты один, Гусар прославленных потомок, Пиров и битвы гражданин.
Никем не было замечено, что Лермонтов перефразировал здесь (сохраняя ее размер, рифмы и ритм) строфу из "Моей родословной" Пушкина:
Родов дряхлеющих обломок (И по несчастью, не один), Бояр старинных я потомок; Я, братцы, мелкий мещанин.
Из содержания "послания" да и по характеру автографа видно, что стихотворение Лермонтова было написано экспромтом на гусарской пирушке. В шумной дружеской компании можно пародировать только те стихи, которые хорошо известны присутствующим. Но "Моя родословная" Пушкина, написанная в 1830 году и положившая начало его непримиримой борьбе с придворной аристократией, не была напечатана, а распространялась только в списках. Следовательно, в гвардейском гусарском полку образовалась сочувствующая среда, где можно было безбоязненно цитировать рукописный политический памфлет Пушкина. В какую пору это было?
Та же строфа из "Моей родословной" Пушкина, которая вдохновила Лермонтова на гусарской пирушке, сыграла гораздо более важную роль в его творчестве и даже судьбе, когда Пушкин был убит. Известно, что в основу знаменитого "прибавления" к "Смерти поэта" Лермонтов положил эту же строфу Пушкина, усложнив ее рифмы и ритмику. Этим он значительно усилил политическую направленность своей обличительной оды против придворных "палачей":
А вы, надменные потомки Известной подлостью прославленных отцов, Пятою рабскою поправшие обломки Игрою счастия обиженных родов!
Стихотворение на смерть Пушкина явилось причиной коренного переворота в судьбе поэта. Можно ли допустить, чтобы, вернувшись из ссылки, Лермонтов сочинил на гусарской пирушке новые стихи, в которых он, примитивно используя рифмы и образы куплетов Пушкина, вернулся к их политической теме? Думается, что психологически это невероятно. Гусарские стихи Лермонтова, вопреки датировке последних изданий, написаны, очевидно, до смерти Пушкина - в 1836, а не в 1837 или 1838 году. Они отражают атмосферу, которой дышал Лермонтов незадолго до смерти Пушкина: заинтересованность "Современником", глубокое сочувствие политической направленности "Моей родословной".
Пародийная строфа из послания "К Н. И. Бухарову" имела в черновом наброске еще один вариант. Первоначально Лермонтов написал:
Другого племени обломок.
Эта строка перекликается со строками "Бородина", в которых, по словам Белинского, выражена основная идея всего стихотворения - "жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел:
- Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри - не вы!"
В образе старого гусара Лермонтов приветствовал одного из представителей "могучего лихого племени", которое он противопоставлял современному поколению офицеров николаевской армии. Но в "Бородине", написанном уже от лица русского солдата, Лермонтов сравнивает не поколения гвардейских офицеров, а героизм всего русского народа в 1812 году с его положением в новую и реакционную эпоху. Очевидно, в послании к Бухарову мы слышим только первые отзвуки размышлений Лермонтова, занявших вскоре центральное место в его творчестве. И это тоже показывает, что экспромт был написан раньше, чем "Бородино". А следовательно, и органически связанная с этим стихотворением "Тамбовская казначейша" тоже была написана до того, как мотивы обеих "Родословных"* Пушкина влились в два центральных произведения Лермонтова - "Смерть поэта" и "Бородино". Добавим к этому, что в "Тамбовской казначейше" заключены элементы полемики с Булгариным по поводу "Современника" Пушкина**, и мы поймем, что должны рассматривать эту поэму как злободневное произведение. Не следует удивляться, что литературная полемика находила отклик в лейб-гусарском полку. Вспомним вступительную строфу.
* ("Моя родословная" (1830) и "Родословная моего героя" (1836))
** (Герштейн Э. "Тамбовская казначейша". - Литературное наследство, 1952, № 58, с. 401-406)
ПОСВЯЩЕНИЕ Пускай слыву я старовером, Мне все равно - я даже рад: Пишу Онегина размером; Пою, друзья, на старый лад, Прошу послушать эту сказку! Ее нежданную развязку Одобрите, быть может, вы Склоненьем легким головы. Обычай древний наблюдая, Мы благодетельным вином Стихи негладкие запьем, И побегут они, хромая, За мирною своей семьей К реке забвенья на покой.
Кому же, собственно, посвящена эта поэма? Она посвящается ее слушателям, именно слушателям, а не читателям. Лермонтов часто посвящал свои поэмы читательницам, но "Тамбовская казначейша" не предназначена для дам. Одобрения поэт ожидает не от слушательниц, а от тех, кто, "наблюдая древний обычай", вместе с автором запивают стихи "благодетельным вином". С этим образом ассоциируется поэтическая стихия Дениса Давыдова, имя которого нередко упоминалось в лейб- гусарском полку.
Частое обращение к слушателям, разговорный язык поэмы, рассчитанный на живое общение с собеседниками*, вызывают в памяти картину, описанную в поэме "Монго" в сентябре 1836 года:
* (См., например, реплику: "Да, да,- как честный офицер!" (строфа 30) или характеристику Гарина, обращенную к слушателям:
".. .не делал страстных изъяснений, Не становился на колени; А несмотря на то, друзья, Счастливей был, чем вы и я" (строфа 17)
)
Когда же в комнате дежурной Они сошлися поутру, Воспоминанья ночи бурной Прогнали краткую хандру. Тут было шуток, смеху было! И, право, Пушкин наш не врет, Сказав, что день беды пройдет, А что пройдет, то будет мило...
Ласково-фамильярная интонация, с какой упомянут здесь Пушкин, и измененная цитата из его стихотворения живо передают чувство любви к великому поэту, сплачивающей кружок царскосельских гусар вокруг Лермонтова в 1836 году. Не им ли посвящена "Тамбовская казначейша"? Поэт говорит о "реке забвенья", в которой тонут его стихи, скромно называет их "негладкими" - неоправданная скромность в ту пору, когда стихотворение "Смерть поэта" разошлось в списках по всей России, а "Бородино" было уже напечатано в "Современнике" в 1837 году. Очевидно, "Тамбовская казначейша" написана еще в 1836 году.
Основанием для передатировки всего "гусарского цикла", в частности стихотворения "Мы ждем тебя, спеши, Бухаров...", служит его сходство с другим вариантом стихотворения, посвященного тому же Бухарову, - "Смотрите, как летит, отвагою пылая...". Это четверостишие подписано под портретом полковника Бухарова, нарисованным в 1838 году гусарским офицером Александром Долгоруким. Но оно переписано каллиграфическим почерком, и только подпись "Лермонтов" принадлежит самому поэту. Его же рукой сделана надпись: "Рис. князь Долгорукий 2, 1838 г.". Обычно Лермонтов если уж датировал свои стихи в рукописи, то делал это точно, но на этот раз он поставил дату не под стихотворением, а под рисунком. Поэтому аккуратная авторизованная копия четверостишия, сделанная в 1838 году, не может служить неопровержимым доказательством, что это стихотворение было сочинено тогда же, в 1838 году. Если прибавить к этому, что бывший лицеист М. Н. Лонгинов вспоминал, как он слышал чтение "Послания к Н. И. Бухарову" на пирушке царскосельских гусар в 1835 или 1836 году, мы должны прийти к выводу, что весь этот цикл написан в 1836 году*. Его вспомнили, когда Лермонтов вернулся весной 1838 года в свой полк. Там он нашел трех новых лейб-гусаров: Александра Долгорукого, который только в 1837 году был выпущен в полк из пажей, Ксаверия Браницкого, в том же году переведенного из Ахтырского гусарского полка, и, как мы знаем, Андрея Шувалова, прикомандированного к лейб-гусарскому полку после кавказской ссылки**.
* (Русская старина, 1873, № 3, с. 386. Ср. неизданное письмо Н. М. Лонгинова к П. А. Ефремову от 27 февраля 1868 г.: "Кстати, вот две ошибки последнего издания: 1. "К портрету старого гусара" (Никол. Ив. Бухарова, которого я хорошо знал лично) и "К Бухарову" (с. 202) написаны не в 1834 году: тогда Лермонтов был еще юнкером, а в 1835, если не в 1836" (ЦГАЛИ, ф. 191, оп. 1. № 228, л. 22))
** (Кс. Браницкий был прикомандирован к лейб-гусарскому полку 24 октября 1837 г. (ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 3, св. 1433, № 696). А. П. Шувалов приехал в Петербург в начале года. 27 января 1838 г. императрица записывает в дневнике: "Видела молодого Шувалова из Тифлиса" (ЦГАОР, ф. 672, оп. 1, № 415, л. 49. Перевод с нем.))
Один из мемуаристов писал об Александре Долгоруком, что это был "очаровательный юноша, добрый и талантливый, хороший рисовальщик, изящный рассказчик"*: другой современник говорил о нем как о "милейшем юноше, исполненном ума и блестящей храбрости, что он и доказал на Кавказе"**; третий отмечал, что "язык у него был как бритва", добавляя, что это был "красивый молодой человек, блестящего ума и с большими связями в высшем свете"*******. Добавим, что Долгорукий писал также водевили и сам в них играл на сцене патриотического общества*****.
* (Воспоминания М. Б. Лобанова-Ростовского. - Г ИМ, ф. 174, № 5, л. ббоб. Перевод с фр)
** (Мещерский А. В. Из моей старины. - Русский архив, 1900, т. III, с. 617)
*** (Последнее подтверждается приглашением его в Аничков дворец. См. об этом главу "Лермонтов и двор", с. 156-157)
**** (Письмо И. К. Ламберта Я. О. Ламберту от 14 июня 1842 г.- ЦГАОР. ф. 785, on. 1, № 134, л. 95об. Перевод с фр)
***** (ЦГАОР, ф. 632, оп. 1, № 28, л. 108)
С внешностью А. Долгорукого можно познакомиться по альбомному рисунку, сделанному в Кисловодске не кем иным, как известным доктором Майером, вольнодумцем, другом сосланных декабристов. Альбом заполнен его злыми шаржами на административных лиц края и рисунками Долгорукого*. Хотя гусару в это время не исполнилось и двадцати лет, доктор Майер подружился с ним. Как известно, после выхода "Героя нашего времени" Майер сразу узнал себя в образе доктора Вернера и обиделся. Но когда летом 1839 года Александр Долгоруков был на Кавказских минеральных водах, "Княжна Мери" не была еще написана. Надо думать, что, вернувшись в октябре 1839 года в свой полк, Долгоруков привез Лермонтову поклон от кисловодского доктора и множество рассказов.
* (Михайлова А. Н. Альбом Оленина. - Литературное наследство, 1952, № 58, с. 482-485)
Александр Долгорукий влился в то общество, которое собиралось на квартире Лермонтова и Столыпина в Царском Селе. М. Н. Лонгинов утверждал, что оба они имели большое влияние на гусар. "Товарищество (esprit de corps) было сильно развито в этом полку, - писал он,- и, между прочим, давало одно время сильный отпор, не помню каким-то притязаниям, командовавшего временно полком, полковника С. Покойный великий князь Михаил Павлович, не любивший вообще этого "esprit de corps", приписывал происходившее в гусарском полку подговорам товарищей со стороны Лермонтова со Столыпиным и говорил, что "разорит это гнездо", то есть уничтожит сходки в доме, где они жили"*.
* (Русская старина, 1873, № 3)
Заявление Лонгинова поддерживают заметки иностранного наблюдателя, посетившего Петербург в 1844 году. Ч. Ф. Хеннингсен рассказывает: "Императору Николаю мало было сделать из своих офицеров машины, в чем он зашел дальше своих предшественников; он захотел сделать из них машины, ничем не связанные друг с другом. Решившись истребить в их среде корпоративный дух, он прибег для этого к тайным мероприятиям, которые в конечном счете изгнали сердечность и умертвили теплое чувство товарищества, которое когда-то связывало в каждом полку военных в более или менее одинаковых чине и положении. К нашему времени произошла такая перемена, что капитан не посмеет сблизиться с штабс-капитаном, а тот с поручиком, а поручик с корнетом. Более того, разрушены все связи между офицерами одного чина; каждый из них стал шпионить за соседом; все чувствуют или воображают, что за ними шпионят, в результате тот, кого склонности потянули бы сблизиться с та- кою-то особою, остерегается ее, а то и действует ей во вред, на что его подталкивает эта система"*.
* (Цит. по фр. переводу: Revelations sur la Russie ou lempereur Nicolas et son empire en 1844. Paris, 1845 (trad. M. Noblet), p. 302- 303)
В свете этих мрачных документов живой товарищеский кружок Лермонтова в лейб-гусарском полку рельефно вырисовывается как воплощение протеста. Не удивительно, что пятеро из этого кружка - Лермонтов, Монго- Столыпин, Ксаверий Браницкий, А. Долгорукий и Андрей Шувалов - составили треть сообщества "шестнадцати".
Мы располагаем интересными воспоминаниями о них, написанными (по-французски) князем Михаилом Борисовичем Лобановым-Ростовским. Зимой 1838-1839 годов, окончив московский университет, он приехал в Петербург, определился во II (законодательное) Отделение собственной его величества канцелярии, где успел недолгое время поработать под руководством М. М. Сперанского (умершего в феврале 1839 года).
Вспоминая о той поре, Лобанов писал:
"В этот период времени я вступил в кружок молодых приятелей, который был мне очень по душе. Это были, во-первых, два брата*, жившие вместе, оба симпатичные и хорошо воспитанные, оригинальные каждый в своем роде, совершенно несходные между собой, но искренно привязанные друг к другу, хотя и расходившиеся во всех своих взглядах. Первый из этих братьев, несколькими годами старше второго, храбро сражался на Кавказе, где получил солдатский Георгиевский крест и легкую рану в грудь. Он был высокого роста и тонок; у него было красивое лицо, казавшееся несколько сонным, но вместе с тем плохо скрывавшее нервные движения, присущие его страстной натуре. При худощавом сложении у него были стальные мускулы и удивительная ловкость на всякого рода физические упражнения: он стрелял из пистолета, фехтовал, делал гимнастику, прыгал в длину и высоту как профессиональный артист, превосходно справлялся с самыми горячими английскими лошадьми, хотя его посадка в седле имела преувеличенно английский характер из-за его большой худобы. Он очень нравился женщинам, благодаря контрасту между его внешностью, казавшейся нежной и хрупкой, его низким и приятным голосом, с одной стороны, и необычайной силой, которую скрывала эта хрупкая оболочка, - с другой. Его бледность и красивое лицо заинтересовывали с первого взгляда, а сила и страстность удовлетворяла и покоряла их.
* (Андрей и Петр Шуваловы)
Он сам очень гордился этими своими достоинствами, постоянно о них говорил и выставлял напоказ. Он любил женщин из-за раздражительности своих нервов и особенно из-за удовольствия сообщать друзьям под строгой тайной о своих любовных похождениях. До того, как я его хорошо узнал, я свято хранил его секреты, но вскоре я открыл, что был посвящен в тайну наряду со всеми, и когда я однажды посмеялся над ним по этому поводу, он вполне серьезно заявил мне, что не стоит обладать женщиной, если нельзя этим похвастаться. У него был легкий и поверхностный ум с большой дозой упрямства, которое он принимал за силу характера; он был хорошим товарищем и во всех отношениях истинным джентльменом.
Брат его был полной противоположностью как в нравственном, так и в физическом отношении. Менее высокого роста, чем старший, он обладал широкой грудью и держался крепко на мускулистых ногах... нос, рот и вся форма лица напоминали маску, снятую с Наполеона после его смерти; я говорю - маску, так как это красивое лицо с матовой кожей, окаймленное шелковистыми черными волосами и пробивающейся бородой... имело обычно безжизненное выражение и казалось чаще всего погруженным во внутреннее созерцание. Сосредоточенный в себе и мечтательный, он пробуждался, когда беседа затрагивала одну из его жизненных струн, лицо его озарялось священным огнем мысли, и из замкнутых до того уст текли потоки стройной и мужественной речи. Сердце его было благородно... Оно не отдавалось легко, но, полюбив, отдавалось целиком, и тогда с лица его спадала серьезная маска, оно освещалось мягкой улыбкой, глубокий ум становился тонким и шутливым, затрагивающим без желчи, с очаровательной иронией все преходящие интересы этого мира... Единственным недостатком его богатой натуры было полное отсутствие духа инициативы, у него было много упорства в отстаивании своих мыслей и убеждений, но это нисколько не распространялось на его ежедневную жизнь, которой он предоставлял течь по воле друзей, не придавая ей значения.
Одним из друзей его брата, ставшим также и нашим другом, был молодой польский офицер, служивший в лейб-гусарском полку и происходивший из семьи, которая невероятно разбогатела, продавая свою родину во время польской анархии, и стала обладательницей состояния более чем в сто миллионов, получив, благодаря браку одной из своих представительниц, наследство полубога Потемкина, которого она была племянницей и одновременно любовницей. Наш друг Ксаверий был добрый и прекрасный малый, всегда живой и любивший весело пожить, краснобай, склонный приврать, но сознававшийся немедленно, как только его уличали в преувеличениях, и смеявшийся сам своему вранью. Он вел крупную игру, но ему не везло; он охотно посещал продажных женщин, любил хорошее вино и часто угощал нас старым венгерским, которое извлекал из погребов своего отца. Несмотря на крупное содержание, которое он получал от родителей, он был вечно без гроша; почти каждый месяц можно было видеть, как он продает своих лошадей и экипажи, после чего с самым философским видом разъезжал на скверном извозчике, заставляя одного из нас уплачивать тот двугривенный за поездку, которого не оказывалось в его кошельке. Это не мешало ему быть веселым, и он продолжал развлекаться за счет своих приятелей, пока отец не сжаливался над ним и не снабжал его снова лошадьми, экипажами и деньгами. Я очень сблизился с ним и продолжал встречаться с ним даже в месте ссылки, далеко от своей родины, куда он удалился добровольно и по легкомыслию, безо всякой серьезной причины.
В эти же дни я много виделся с офицерами лейб-гусарского полка, расквартированного в Царском Селе, когда я бывал у Ксаверия и Андрея, у которых были там собственные дома. Здесь я познакомился с красивым Монго, получившим это прозвище от великолепной белой ньюфаундлендской собаки, носившей эту кличку. Он только что вернулся тогда из кавказской экспедиции и щеголял в восточном архалуке и в огромных красных шелковых шароварах, лежа на персидских коврах и куря турецкий табак из длинных, пятифутовых черешневых чубуков с константинопольскими янтарями. Он еще не сделался тогда блестящим фатом, прославившимся своей долгой связью с моей очаровательной, но слишком легкомысленной кузиной*, которая, впрочем, обращалась с ним с величайшим пренебрежением и позволяла себе самые невероятные вольности у него под носом, насмехаясь над ним. Он тогда еше не предался культу собственной особы, не принимал по утрам и вечерам ванны из различных духов, не имел особого наряда для каждого случая и каждого часа дня, не превратил еще себя в бальзаковского героя прилежным изучением творений этого писателя и всех романов того времени, которые так верно рисуют женщин и большой свет; он был еще только скромной куколкой, завернутой в кокон своего полка, и говорил довольно плохо по-французски; он хотел прослыть умным, для чего шумел и пьянствовал, а на смотрах и парадах ездил верхом по-черкесски на коротких стременах, чем навлекал на себя выговоры начальства. В сущности, это был красивый манекен мужчины с безжизненным лицом и глупым выражением глаз и уст, которые к тому же были косноязычны и нередко заикались. Он был глуп, сознавал это и скрывал свою глупость под маской пустоты и хвастовства. Я его не любил, и он платил мне тем же.
* (Графиня Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова)
Я также подружился в этом полку с родственником великолепного истукана, не имевшим, однако, с ним ничего общего. Это был молодой человек, одаренный божественным даром поэзии, притом - поэзии, проникнутой глубокой мыслью, с пантеистическим оттенком, изображающей чувства пламенные, но окутанные некоторой грустью, как отзвук отчаяния и презрения, сделавшихся привычкой. Он также побывал на Кавказе и воспел его красоты в великолепных стихах. Там с еще большей силой он вдохнул в свои легкие тот дух независимости и безграничной свободы, который считается преступлением в Петербурге, который изгнал его на Кавказ, где он погиб еще молодым в злополучном поединке, оплакиваемый навеки всеми, кто ценит талант в России. Он был некрасив и мал ростом, но у него было очаровательное выражение лица и глаза его искрились умом. С глазу на глаз пли в кружке, где не было его однополчан, это был человек любезный, речь его была интересна, всегда оригинальна и немного язвительна. В своем же обществе это был демон буйства, криков, разнузданности и насмешки. Он не мог жить, не имея кого-либо, кто бы мог служить ему посмешищем; таких лиц было несколько в полку, и между ними один, который был излюбленным объектом его преследований. Правда, что это был смешной дурак и что он еще имел несчастье носить фамилию Тиран. Лермонтов сочинил целую песню по поводу злоключений и невзгод Тирана: нельзя было слышать ее без смеха; ее распевали хором, крича во все горло этому бедняге в уши.
Первое появление Лермонтова в свете, - продолжал Лобанов, - произошло под покровительством женщины- одной очень оригинальной особы. Это была отставная красавица лет за 50, тем не менее сохранившая следы прежней красоты, сверкающие глаза, плечи и грудь, которые она охотно показывала и выставляла на любование. У нее была уже взрослая дочь, любимая фрейлина императрицы, никогда с ней не расстававшейся... Мать... сохранила большое влияние при дворе и была постоянно предметом ухаживаний со стороны честолюбивых молодых людей, желавших сделать при ее посредстве карьеру; одному из них удалось даже получить таким образом адъютантский аксельбант. Таким образом, "молодая", но несколько подержанная особа имела свой двор поклонников... Вот какой женщине Лермонтов доверил заботу о своих первых шагах в свете, правда отнюдь не из тщеславного желания сделать карьеру, а лишь для того, чтобы проникнуть в тот круг, где ни его принадлежность к старинному дворянскому роду, ни его талант, который открыл бы ему все иные двери, не давали ему прав гражданства -для того, чтобы проникнуть в ханжеское общество людей, мнивших себя русской аристократией"*.
* (Воспоминания М. Б. Лобанова-Ростовского. - Г ИМ, ф. 174, № 5, л. 88-91. Перевод с фр)
Несмотря на фривольный тон Лобанова, нам нетрудно узнать в описанной им покровительнице Лермонтова дочь фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова Елизавету Михайловну Хитрово, преданного друга Пушкина. Лобанов не успел ничего о ней узнать, кроме великосветских сплетен (она умерла в мае 1839 года), и для него осталось неизвестным, что Хитрово горячо приветствовала стихи Лермонтова на смерть Пушкина. Очевидно, она пожелала познакомиться с их автором, когда он вернулся в Петербург из кавказской ссылки. А ее дружбы было достаточно, чтобы открыть Лермонтову двери и других великосветских гостиных. Интерес же Лермонтова к ней, вероятно, был обусловлен возможностью говорить с ней о Пушкине, о его трагедии и гибели, быть может - о полемике по поводу пушкинского "Полководца".
Нуждается в коррективе также сделанная Лобановым отрицательная характеристика Монго-Столыпина. Впрочем, он сам дал ключ к ее толкованию, написав: "Я его не любил, и он платил мне тем же". Эта взаимная неприязнь была вызвана соперничеством, так как Лобанов тоже питал глубокое чувство к А. К. Воронцовой- Дашковой. Это лишает его отзыв о Столыпине объективной ценности*.
* (См. об этом главу "Дуэль и смерть", с. 297)
Что касается образа Лермонтова в воспоминаниях Лобанова, его надо признать одним из самых значительных в мемуарной литературе о поэте. Лобанов убедительно указывает на политическую подоплеку последней ссылки Лермонтова на Кавказ.
Интересны портреты братьев Шуваловых. Заметим, что у Лермонтова и Столыпина могла быть давнишняя связь с ними, так же как и с Николаем Жерве, благодаря их общей принадлежности к кругу Сперанского. Отцы Монго и Жерве были его ближайшими друзьями и сотрудниками (это отражено и в романе Л. Толстого "Война и мир"), бабушка Лермонтова тоже была хорошо знакома с этим крупным государственным деятелем*. Шуваловы после смерти отца в 1823 году воспитывались М. М. Сперанским (официальным их опекуном) и его дочерью, Е. М. Фроловой-Багреевой. Сперанский хлопотал перед командиром Отдельного кавказского корпуса об Андрее, когда юноша был по повелению царя выслан в 1835 году на Кавказ. Что послужило причиной высылки, не выяснено, известно только, что перед отправлением в Нижегородский драгунский полк Андрей Шувалов получил аудиенцию у царя для "отеческого наставления"**. В военной экспедиции Андрей Шувалов оказался вместе с Н. А. Жерве, прощенным царем в Тифлисе в том же приказе, что и Лермонтов,- 11 октября 1837 года.
* (См.: Вырыпаев П. А. Лермонтов. Новые материалы к биографии. Воронеж, 1972, с. 26-60)
** (Письмо Г. А. Розена к М. М. Сперанскому от 27 июля 1835 г.- ГПБ, фонд М. М. Сперанского)
В первые же дни знакомства с Карамзиными Лермонтов встретился у них с обоими братьями Шуваловыми. 5 сентября 1838 года С. Н. Карамзина писала сестре: "Были Хрущевы, два графа Шуваловы, которых представила Багреева, Лермонтов"*.
* (Лермонтов в переписке Карамзиных. - В кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., Наука, 1979, с. 344-345)
Установленная дружба Лермонтова с Шуваловым позволяет раскрыть полное имя персонажа, в обществе которого писатель Тургенев впервые увидел Лермонтова (на балу у княгини Шаховской в декабре 1839 года). Описав трагическую внешность Лермонтова и заметив, что поэт "с каким-то обидным удивлением оглядывал" засмеявшихся Э. К. Мусину-Пушкину и их общего собеседника, И. С. Тургенев утверждал все же, что этого собеседника, "графа Ш-а", тоже гусара, Лермонтов "любил как товарища"*. Нет сомнения, что тут речь шла об Андрее Шувалове.
* (См.: Тургенев И. С. Из литературных и житейских воспоминаний.- Собр. соч. в 12-ти томах, т. 10. М., Гослитиздат, 1956, с. 330-332)
В литературном портрете Шувалова, сделанном Лобановым, угадываются некоторые черты Печорина - типа, составленного, по словам Лермонтова, "из пороков всего нашего поколения". Вспомним "нервическую слабость" в позе волевого Печорина, "какую-то женскую нежность" его кожи, "одну из тех оригинальных физиономий, которые особенно нравятся женщинам светским" ("Максим Максимыч"). А из циничного замечания Шувалова о "хвастовстве" как единственном стимуле для любовных приключений вырастает рассудочность Печорина в его отношении к княжне Мери, обоснованная Лермонтовым глубоким психологическим анализом современного ему типа молодого человека*.
* (Сближение образа Печорина с лобановской характеристикой А. П. Шувалова ошибочно приписано в "Лермонтовской энциклопедии" (с. 628) современникам Лермонтова)
О самых молодых участниках кружка сохранилось мало сведений. Но трудно ждать особенного богатства идей от элегантного Сергея Долгорукого или от Дмитрия Фредерикса. Правда, сосланный декабрист А. Беляев, встречавшийся с ним на Кавказе, характеризовал его как "бесподобную личность".
"Высокий, стройный, с прекрасными правильными чертами лица, с черными усами, вьющимися волосами и голубыми глазами, он был, действительно, красавец,- восторженно описывает Фредерикса Беляев. - Всегда задумчивый, редко веселый, скромный, кроткий и в то же время пылкий, но всегда сдержанный и сосредоточенный. Он был так привлекателен, так симпатичен, что нельзя было не полюбить его сердцем"*. Но в этой эмоциональной характеристике мало материала для выводов о воззрениях Фредерикса. Да их, вероятно, и не было, если не считать его глубокой религиозности, заставившей его перейти из лютеранской веры в православную.
* (Беляев А. Воспоминания о пережитом и перечувствованном. СПб., 1882, с. 479)
Сыновья высших царедворцев вносили, видимо, в собрания "шестнадцати" струю придворных новостей, подобных тем, которые давали Пушкину постоянный материал для его разоблачительной хроники великосветского Петербурга. В своей книге Браницкий дает понятие и об этой стороне бесед "шестнадцати".
"Самым общим, -пишет он, - и самым роковым следствием владычества ханов Золотой Орды над великими князьями было воспитание русских в школе немецкого деспотизма, вдохновленного австрийским шпионажем Меттерниха, сдобренного некоторыми утонченностями, воспринятыми от Фуше. Это породило для автократии, достигшей своего апогея при Николае I, самую сложную и самую гнусную машину угнетения, под какой когда-либо страдало человечество и которая в наши дни не без насмешливой скромности именуется III Отделением собственной его императорского величества канцелярии".
"Но по крайней мере, - обращается Браницкий к Гагарину,- ханы не помышляли о том, чтобы, как цари, силой навязывать религиозные верования, запрещать употребление какого-либо языка, предписывать правила одежды для мужчин и для женщин. Они не вменяли в преступление большую или меньшую длину волос, бороду, подстриженную или подбритую известным фасоном, а иногда даже невинный лорнет, приставленный к близорукому глазу.
А мы ведь все это с вами видели, мой уважаемый отец, когда оба проживали на берегах Невы. И будь у нас время и желание их перечислить, сколько мы могли бы еще припомнить вещей, где смехотворное граничит с возмутительным! В их числе нашлись бы такие нелепости, что они показались бы придуманными на смех.
Впрочем, вы, мой дорогой друг и бывший сотоварищ, знаете не хуже меня, до чего доходили татарская жестокость и восточное воображение III Отделения в царствование незабвенной памяти Николая I",
Политическое злословие было присуще и Вяземскому, с которым были связаны некоторые члены кружка. "Маскарады здесь в большой славе, - писал, например, П. А. Вяземский 30 января 1840 года, - но довольно скучны, по крайней мере для нас, грешных. Все кидаются за высокими посетителями, а нас и не трогают, разве какие-нибудь свинства задирают..." Угодливость придворных на этих балах постоянно раздражала Вяземского. "Вчера был блестящий бал в Собрании, - пишет он 8 февраля 1840 года. - Что-то обдавало Москвою, особенно с хоров, можно было забыться и подумать, что это московский вторник. И карикатур довольно. Только директоры здешние более хлопочут и важничают, Долгорукий, Матвей Виельгорский, который бомондмейстер танцев, толкает, пихает, все это pour le bon publique (для чистой публики), разумеется..."
Когда "злобой дня" петербургского великосветского круга стал наново обставленный с особенной роскошью дом графини Завадовской, "Смирнова говорила, что наша публика удивительно была глупа в этой гостиной: неловко ступала по бархату, таращила глаза на бронзы, на портьеры, шепотом говорила и проч.". Передавая 20 ноября 1839 года эти слова Смирновой, Вяземский заключал: "Публика наша удивительно лакейская", - имея в виду необоснованные толки о "дерзости или колоссальном воровстве" и о "пакостных источниках этой роскоши" Завадовской.
В петербургском альбоме Лермонтова записан адрес Завадовской. Очевидно, он тоже получил приглашение в этот модный дом и, надо думать, разделял взгляд Смирновой и Вяземского на великосветскую публику.
Интересно, что А. О. Смирнова, которая еще при жизни Пушкина "шутки злости самой черной писала прямо набело", теперь связывает свой критицизм с настроениями группы писателей, объединившихся в "Отечественных записках". Описывая 14 марта 1839 года Вяземскому удивительное пение Росси, она добавляет: "это хороший момент в жизни, особенно в нашей монотонной жизни петербургской (я секты Краевского)"*. К этой "секте" в первую очередь принадлежал Лермонтов.
* (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 133об" 137об., 94об.; № 2761, л. 27об)
Ему тоже была присуща свободная и язвительная беседа, которой он давал волю у Карамзиных и, очевидно, на собраниях "шестнадцати".
Вспомним, как он поразил в 1841 году юного И. П. Забеллу*, когда приезжал в последний раз в Петербург. "С лица Лермонтова, - пишет мемуарист, - не сходила сардоническая улыбка, а речь его шла на ту же тему, что и у Чацкого... Передать всех мелочей я не в состоянии, но помню, что тут повально перебирались кузины. тетеньки, дяденьки говорившего и масса других личностей большого света, мне неизвестных и знакомых хозяйке. Она заливалась смехом и вызывала Лермонтова своими расспросами на новые сарказмы"**. К этому же времени относится злой шарж, набросанный карандашом Лермонтова в альбоме А. Д. Блудовой. Двое светских людей, господин и дама, изображены со спины. Мужчина закинул голову, а женщина низко приседает перед спускающимся к ним сверху двуглавым орлом. Вспомним также рассказ ремонтера П. И. Магденко, который встретил месяц спустя в Георгиевске Лермонтова и Столыпина-Монго: "Говорил Лермонтов и о вопросах, касающихся общего положения дел в России. Об одном высокопоставленном лице я услыхал от него тогда в первый раз в жизни моей такое жесткое мнение, что оно и теперь еще кажется мне преувеличенным"***.
* (Сын приятельницы Арсеньевой)
** (Воспоминания, с. 275)
*** (Там же, с. 305)
В критическом отношении к николаевскому Петербургу сошлись и Вяземский, начинавший в это время уже терять свою независимость, и Смирнова, в общем никогда не выходившая из рамок верноподданнических чувств к царю и царице, и Лермонтов со своими резкими сарказма ми, и молодежь из высокопоставленных семейств.
Но одним злословием оппозиционные настроения "шестнадцати" не ограничивались. Более глубокое представление о политических взглядах некоторых из "шестнадцати" можно составить, обратившись к биографиям таких его участников, как Ксаверий Браницкий и его друг М. Б. Лобанов-Ростовский.
4
Один из видных лидеров правого крыла польской политической эмиграции в 40-60-х годах, Ксаверий Браницкий уехал из России в 1845 году. Потомки известных польских магнатов, владевших огромными землями на
Украине и в Царстве Польском, Браницкие обладали колоссальным богатством. Заграничная политическая деятельность Ксаверия Браницкого выражалась главным образом в субсидировании различных польских националистических начинаний. В 1849 году он финансировал издание демократической газеты "Трибуна народов", редактируемой А. Мицкевичем; в 1854 году, во время Крымской войны, дал денег на организацию польского батальона в помощь французам; в 1863-м субсидировал для поддержки польского восстания неудавшуюся экспедицию, в которой участвовали Михаил Бакунин и сын Герцена.
Официально политическим эмигрантом Браницкий стал в 1849 году. Узнав о его участии в газете, направленной против политики русского царизма в Польше, Николай I потребовал его возвращения в Россию. Браницкий отказался. В 1854 году он перешел во французское подданство; "с самого детства я был француз в душе",- заявлял он. Закончил Браницкий свою политическую карьеру в рядах французской консервативной партии.
Прежде чем стать участником французской политической жизни. Браницкий прошел длинный путь. Он с восторгом принял весть о революции 1848 года. "Теперь можно будет свободно дышать и в Западной Европе",- сказал он и отказался от первоначального намерения уехать навсегда в Америку, считавшуюся тогда единственной демократической страной в мире. Он уважал "благородный ум" Герцена, оказал ему практическую помощь при получении визы для въезда во Францию в 1861 году.
Подробнее анализировать политическую позицию Браницкого в эпоху, отдаленную от поры его знакомства с Лермонтовым, у нас нет необходимости. Но история его эмиграции из России, рассказанная в уже знакомой нам книге "Славянские национальности", бросает ретроспективный свет и на историю общества "шестнадцати".
"Что касается меня, поляка, - пишет Браницкий,- я рано стал испытывать глубокую ненависть к императору Николаю, неумолимое бешенство которого обрушивалось на кровавые останки моей страны. Тем не менее, уроженец Варшавы, я состоял на военной службе и к тому же всегда чувствовал определенное влечение к военному делу. Все шло хорошо до того момента, когда, после смерти моего отца, автократ решил сделать меня флигель-адъютантом (в сентябре 1843 г. - Э. Г.).
Эта милость (я об этом узнал только спустя долгое время от генерала В. Красинского) сопровождалась задней мыслью, которая живо рисует самого тиранического, быть может, в нашем веке государя.
Я назначил, - сказал он фельдмаршалу Паскевичу, - Кс. Браницкого к своей особе, что ты думаешь об этом?
На это кн. Варшавский, всегда относившийся ко мне с исключитетельной добротой, принялся восхвалять меня, говоря, что он находит во мне задатки превосходного боевого офицера.
Я вижу, - нетерпеливо прервал его сын Павла,- что за четыре года ты мало узнал своего адъютанта. Хороший он офицер или дурной, но ум его отвратительно направлен. Это молодая Франция, привитая к старой Польше. Теперь я будут иметь его под рукой. Если он попадется хоть в малейшем проступке, его участь будет тут же решена. Я его зашлю в такие места, где и вороны не соберут его костей!"
"Хотя я и не был осведомлен о намерениях этого наименее милосердного из всех отпрысков Голынтейн- Готторпского дома, - продолжает Браницкий, - одна мысль о постоянном общении с ним меня возмущала. На Кавказе, где он появлялся только изредка, я мог воевать против Шамиля с увлечением, которое вполне объяснимо моим тяготением к военному искусству. Но оставаться во дворце, вблизи императора, на службе у самодержца всероссийского,- это превосходило меру моего терпения".
Тяжелая болезнь дала возможность Браницкому отпроситься для лечения за границу, а затем в 1845 году он иод тем же предлогом вышел в отставку. В деле военного министерства сохранился документ, косвенно подтверждающий верность рассказа генерала Красинского о тайных намерениях Николая I при назначении Браницкого флигель-адъютантом. О его отставке военный министр извещал шефа жандармов гр. А. Ф. Орлова*,- по-видимому, в 1845 году Ксаверий Браницкий состоял под секретным надзором.
* (ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 3, № 696)
О петербургском периоде Браницкий упоминает в своей книге довольно глухо. Он ничего не рассказал о причинах своего перевода в марте 1840 года адъютантом к наместнику польскому князю И. Ф. Паскевичу-Эриванскому, умолчал о том, что в 1841 году вынужден был перевестись в закавказскую армию по политическим причинам. Об этом упоминает в своих мемуарах Лобанов.
Летом 1841 года он встретился с Браницким в Закавказье- там, где должен был быть и Лермонтов, если бы он не свернул в Пятигорск. "Я застал уже в Темир-Хан-Шуре, - пишет Лобанов, - многих моих друзей и хороших знакомых, в том числе наиболее близкого мне, моего дорогого Ксаверия. Он по собственному побуждению приехал на Кавказ с разрешения фельдмаршала, чтобы избежать опасности быть вовлеченным в замыслы польских патриотов, которые упрекали его в том, что он носит русский мундир; во время одной ночной попойки некоторые из наиболее рьяных сорвали эполеты с его сюртука. Отрезвившись на следующий день, Ксаверий измерил умственным взором всю глубину падения, в которое увлекли его, и, полный благородного негодования на самого себя, явился к фельдмаршалу, чтобы передать ему о происшедшем и попросить его разрешения проделать одну кампанию на Кавказе. Разрешение было ему дано".
Сомневаться в правдивости сообщения Лобанова у нас нет оснований - другие его сведения подтверждаются. Например, он писал, что продолжал дружить с Браницким за границей, когда последний был уже политическим эмигрантом. Иллюстрацией этого заявления может служить парижский визит обоих друзей к Герцену. Как известно, царское правительство потребовало высылки из Франции русского революционера. 23 мая 1850 года А. И. Герцен писал по этому поводу Георгу Гервегу:
"Вчера мы от души хохотали над состоявшимся у меня утренним приемом. Я начинаю думать, что меня произвели в министры или в архиепископы. Граф Браницкий, который никогда раньше у меня не бывал, нанес мне визит, мотивируя это тем, что он слышал, будто я должен покинуть Париж, и что он хотел, и т. д., и т. д. ...Полчаса спустя входит стройный человек благородной наружности и начинает с того, что, будучи русским и почитателем такого-то и такого-то моего произведения, он, услышав о моем отъезде... idem. Я спрашиваю его, - с кем имею честь говорить,- оказалось, это князь Лобанов-Ростовский (муж дочери фельдмаршала Паскевича). Милый человек, хотя и русский офицер".
Герцен не мог не иронизировать над сочувствием его деятельности представителей знати, "человек столь ографленный и окняженный", - шутливо отзывался он о себе самом после этого визита, но через четыре дня пишет Гервегу уже серьезнее: "Князь Лобанов, о котором я тебе говорил, человек благородный, со всей широтой и богатством русской натуры, когда она не подлая скотина. Мы еще поговорим об этом - т. е. о нем"*.
* (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. XXIV. М. - Л., Изд-во АН СССР, 1961, с. 57, 68. Перевод с фр)
Можно предположить, что Лобанов либо предложил Герцену свои услуги для нелегальных связей с Россией, либо говорил с ним о своем желании примкнуть к политической эмиграции. Для обоих предположений имеются основания. Так, когда в 1847 году группе общественных деятелей (Кулиш, Чижов и Савич), возвращавшейся из Германии на родину, предстоял обыск или арест, у Ю. Ф. Самарина возник проект поручить Лобанову предупредить их о неминуемой встрече на границе с жандармами. "Сделать это письменно,- об этом и думать нельзя, - писал он в начале апреля 1847 года А. С. Хомякову,- надобно бы найти надежного и очень надежного человека, который бы ехал за границу. Предоставляю вам обдумать средства. Я могу указать только на одного человека - князя Лобанова, адъютанта Воронцова; он - мой университетский товарищ и собирается ехать за границу; на него вы можете положиться и предложить ему это поручение от моего имени"*.
* (Самарин Ю. Ф. Соч., т. XII. М" 1911, с. 423)
Что касается политической эмиграции, то в 40-х годах у Лобанова была мысль "о добровольном отречении от отечества, которое я любил,- пишет он,- но не мог видеть в том состоянии рабства, в котором оно погрязло". Впрочем, женитьба в 1849 году на дочери фельдмаршала Паскевича, вероятно, уже исключала подобное намерение. Вернувшись в Россию, Лобанов вскоре был назначен флигель-адъютантом.
На примере Браницкого мы уже могли убедиться, что подобное блестящее назначение нередко сопровождалось коварными замыслами Николая I. Лобанов тоже утверждал, что царь относился к нему с постоянной настороженностью. Он замечал, что Николай Павлович "подозревал" его "в слишком большой независимости мнений" и знал, что Лобанов "был хорошо образован, чего он нисколько не ценил".
Это недоверие дало себя знать еще в декабре 1839 года, когда Лобанов подал в отставку, находясь на службе во II Отделении императорской канцелярии. "Не уходят так со службы в ведомстве, носящем непосредственно имя государя императора, - сказал ему пораженный начальник Отделения гр. Д. Н. Блудов. Но царь дал свое "соизволение" на отставку Лобанова, сказав: "Я его знаю, это беспокойная натура, которая нигде не уживется".
Через два года, уже в Тифлисе, Лобанов выразил желание перейти из гражданской службы в военную. Для получения офицерского чина ему надлежало сдать соответствующие экзамены при Генеральном штабе. Но ни представление Головина "высочайшего соизволения" не последовало. "Пусть начинает азбукою", - сказал Николай. Это решение возмутило даже такого высокого начальника, как главноуправляющий Грузией Головин. "Он сказал мне... - вспоминает Лобанов, - что я, конечно, сочту невозможным опуститься так низко, чтобы выполнить каприз монарха". Однако Лобанов оказался покладистее своего начальника и поступил юнкером в Нижегородский драгунский полк. Только через два года он получил "за отличие в делах" офицерский чин.
15 июля 1844 года военный министр кн. А. И. Чернышев получил от Николая I бумагу со следующей сопроводительной надписью: "Крайне любопытная, верная и плачевная повесть всего, что делалось на Кавказе; она прислана от неизвестного прямо к наследнику; прочтите; хотя много нам известно, но без ужаса читать нельзя. Яснее ничего я не читал. По прочтении возвратите"*.
* (ЦГАОР, ф. 672, оп. 1, № 86, л. 1. Записка прапорщика Нижегородского драгунского полка кн. Лобанова "Обзор последних событии на Кавказе с 1826 по 1844 гг.")
Рассказ автора о состоянии царской армии живо напоминает картину, ставшую ясной всем современникам через десять лет, во время Крымской войны. В записке говорилось о воровстве интендантов, о пьянстве офицеров, противоречивых приказах командования. Аноним представил вместе с тем дельный доклад о военно-стратегическом положении на Кавказе и о государственном строе, установленном верховным имамом Шамилем. Автор выделил героизм отдельных русских офицеров, называя, например, Лабинцева, героя взятия Аргуана, "чудо-богатырем", но смело указывая наследнику, что причины неудач на Кавказе надо искать в отсутствии там генерала Ермолова, отставленного от всех дел еще в 1827 году.
Чернышев признал, что в этой записке, "к сожалению, много правды" - "нового же только то, что в хозяйственном управлении частями войск продолжаются и ныне злоупотребления, на которые местное начальство не обращает должного внимания!". Упрекая составителя записки в преувеличении неприятельских сил и в неверном изложении хода военных действий, министр добавляет: "По всем догадкам моим сочинитель должен быть пра порщик Нижегородского драгунского полка кн. Лобанов, состоящим при генерале Фрейтаге. Этот молодой человек, при чрезмерно пылкой молодости! имеет большие способности, изучил арабский и татарский языки и напитан, как и вся почти тамошняя молодежь, неограниченным пристрастием к генералу Ермолову! - Кн. Лобанов служил прежде в министерстве иностранных дел и поступил в службу юнкером; в сем звании генерал Фрейтаг поручил ему команду в 60 казаков, с которою он отличился при Низовом укреплении, за что и произведен в прапорщики".
"Беспокойная натура", "чрезмерно пылкая молодость!", "имеет большие способности" и, наконец, ермоловец! - на языке Николая I и его приближенных эти рекомендации означали то же самое, что в позднейшие десятилетия царская охранка определяла словом "неблагонадежный".
Вот какой человек беседовал "с глазу на глаз" с Лермонтовым, прислушивался в дружеском кружке к его "интересной, всегда оригинальной и немного язвительной речи". И если Лобанов уверенно говорит, что причиной вторичной высылки Лермонтова на Кавказ послужил воодушевлявший его "дух независимости и безграничной свободы", мы можем ему поверить.
В записке князя А. И. Чернышева к своему суверену особенное внимание обращает на себя фраза относительно пристрастия Лобанова к опальному Ермолову: "как и вся почти тамошняя молодежь". Этими словами военный министр признал наличие большой оппозиционной группы в закавказской действующей армии. Лобанов только выразил ее общее мнение, характеризуя Ермолова такими чертами: "Ловкость его, хитрость вместе с силою и неизменною строгостию, уменье выбирать людей, которым он вверял управление покорными народами, ласковость его с преданными нам, твердая воля, решительный характер и уменье пользоваться обстоятельствами, может быть, и без побед доставили бы ему славу покорения всего Кавказа. Но с его отъездом все переменилось".
Интересно сравнить эту деловую характеристику Ермолова с поэтической, сделанной еще в 30-х годах писателем Марлинским в "Аммалат-Беке": "Напрасно прячут они свои коварные замыслы в самые сокровенные складки сердца, - пишет он о чеченцах, - его (Ермолова) глаз преследует, разрывает их, как червей, и за 20 лет вперед угадывает их мысли и дела".
Таким образом, портрет Ермолова, вставленный Лермонтовым в его стихотворение "Спор", органически вплетался в традицию, сохранявшуюся среди большой прослойки офицеров закавказской армии.
Типично также увлечение Лобанова восточными языками. Это тоже традиция, державшаяся с тех времен, когда на Кавказе жил сосланный декабрист А. А. Бестужев, ставший знаменитым как писатель Марлинский. Известно, что в письме из первой кавказской ссылки к Св. Раевскому Лермонтов, повторив крылатую фразу Бестужева: "татарский язык необходим в Азии так же, как французский в Европе", сообщал, что "начал учиться по-татарски"*. Лобанов тоже принялся за изучение языков отнюдь не из одних лингвистических интересов. Он был одним из первых русских офицеров, серьезно занявшихся изучением мюридизма, совершенно тогда еще неизвестного национального и политического движения**.
* (Подробнее об этом см.: Андроников И. Лермонтов в Грузии в 1837 году. М., Советский писатель, 1955, с. 151 и др. (глава "Ученый татарин Али"))
** (Один отрывок из труда Лобанова о мюридизме был напечатан в 1865 г. в "Русском архиве", переданный редактору этого журнала младшим братом покойного уже автора - Я. Б. Лобановым-Ростов- ским. Другие разбросаны по советским государственным архивохранилищам)
В Петербурге у Лобанова тоже было много точек соприкосновения с Лермонтовым и другими "шестнадцатью". Правда, об этом периоде своей жизни Лобанов по личным причинам вспоминает с отвращением. "Мне до такой степени стыдно того глупого и бесполезного образа жизни, который я вел в течение 16-ти месяцев моего пребывания в Петербурге, - пишет он, - что мне очень хотелось бы перескочить обеими ногами через этот злосчастный период времени и перенестись прямо на Кавказ, который был для меня великой школой возрождения. Но нужно смириться, принять позу кающегося и признать себя хуже самого тяжкого преступника, ибо я совершал больше, чем преступление, я растрачивал время, невозвратное время юности, на безумства, развращая себя во всех отношениях, становясь идиотом и беспринципным человеком. Вот почему я с тех самых пор свято сберег в глубине души ненависть к Петербургу и ко всему, что от него исходит".
Трудно говорить о системе политических взглядов Лобанова в ту пору, когда он в двадцатилетнем возрасте встречался в Петербурге с Лермонтовым и "шестнадцатью". "В описываемую эпоху у меня были глаза, которые видели, но не было холодного рассудка, который мог бесстрастно судить, - пишет он по поводу своих путешествий с отцом по России в 1837 и 1838 годах. - ...впоследствии мне удалось составить себе ясное понятие о том, от чего происходят все эти бедствия моей несчастной родины, и я написал по этому поводу записку, которая разделила участь всего написанного мною: все это осталось неизданным, так как не могло быть опубликовано при правительстве, не допускающем никакой правды и живущем только мраком и ложью. Лишь несколько редких друзей познакомились с моими писаниями, ибо число людей мыслящих и интересующихся серьезными вопросами очень ограниченно в России". Однако в мемуарах у него нередко прорываются отдельные политические суждения, из которых видно, что его воззрения на русский исторический процесс были выношены с детства. "Цари разрушили старинные города, которые были свободными общинами, призывающими князей, боровшимися с внешними врагами, гордыми, спорящими между собой и вновь соединявшимися. Их разрушение открыло широкую дорогу для тирании, которая насадила там ядовитые зерна рабства. Но помолчим, уймем наше бесплодное негодование и вернемся к печальной истории моей жизни", - пишет он.
Князья Лобановы-Ростовские считались прямыми потомками Владимира Мономаха. Ростовские князья были последними присоединившимися к великому княжеству Московскому. И Михаил Лобанов не мог отойти от традиционной ненависти к Романовым, которую культивировали "рюриковичи". Он разделял политические иллюзии декабристов, идеализировавших значение новгородского и псковского веча.
Как и многие отпрыски дворянских семейств в Москве, он получил первые уроки гражданственности от домашнего учителя. Правила воспитания француза-республиканца сводили маленьких князей Лобановых "с ложного пьедестала на истинную почву чести без различия сословий". "Моя душа, - пишет М. Лобанов, - с восторгом впитывала этот новый гуманитарный кодекс, и я усвоил его себе быстро и настолько твердо, что могу по совести сказать, что никогда не отступил от него в течение всей моей достаточно долгой жизни, проведенной притом большей частью в России, где на каждом шагу человек испытывает соблазн позабыть его".
Отрицательное отношение к самодержцу вытекало у Лобанова не из династических счетов, а потому, что современная действительность давала ему, как и многим его единомышленникам, свежие впечатления, питавшие эту историческую рознь. "Я осуждал покойного императора в том, - пишет он, - что он не мог в течение 26 лет забыть пролитую 14 декабря кровь, что он держал с тех пор под подозрением всех людей хороших фамилий, образованных и честных, удалял их, заменяя темными личностями, которые служили ему как лакеи, обманывая и обкрадывая его". Такая оценка политической обстановки (особенно в первое пятнадцатилетие царствования Николая I), когда на политическую арену еще не вышли новые общественные силы, вовсе не вытекала из субъективных настроений Лобанова. Это историческое явление, на почве которого выросли "Родословные" Пушкина, и "Смерть поэта" Лермонтова, и постоянные, настойчивые высказывания Пушкина о "мятежной" роли родовитого дворянства.
О глубоком водоразделе, пролегающем между романовской, особенно "николаевской", знатью и старинной, традиционной, говорили и многие иностранные наблюдатели, не всегда понимая его злободневные истоки. Ч. Ф. Хеннингсен писал в 1844 году: "Офицеры гвардейской кавалерии и пехоты в большинстве своем набираются из земельной аристократии и семей высшего чиновничества, но есть многочисленные исключения. Знатную молодежь обычно принимают в гвардию в первую очередь за богатство, которое позволяет им увеличивать блеск воинской части, а также потому, что в этом находят то преимущество, что люди, которые благодаря своему титулу могли бы оказаться в ином месте опасными, оказываются непосредственно под наблюдением самодержца, который следит за ними со строгостью учителя к ученикам. Можно вообразить, что не упускают ни малейшей возможности унизить их или сломать их характер, - характер, обычно достаточно раболепный, но который считают слишком независимым у отпрысков богатой аристократии, воспитанных в уединении поместья, в семье, еще, быть может, оплакивающей свое падение, а не вымуштрованных в кадетских корпусах на механическое подчинение. Эти-то люди и являются основными объектами царевой строгости. Немецкие авантюристы и отпрыски бюрократии пользуются большею свободою, так как, будучи более податливы, чем высокая знать, и не имея никаких посягательств на личное влияние, они менее задевают никогда не засыпающую ревность"*.
* (См. примеч. 63, с. 307. Перевод с фр)
Иностранный наблюдатель констатирует факт, но толкует его по аналогии с западноевропейским историческим процессом. Он говорит о независимости богатых феодалов, наследников майоратных имений, не учитывая, что в крепостной России старинное дворянство было экономически разорено, а влияние его было обусловлено другими причинами. Американский публицист не понял русской специфики, при которой среда обедневшей знати была очагом оппозиционных настроений. В этой связи интересно познакомиться с отношением Лобанова к декабристам. Он определяет поражение восстания 1825 года как "печальный и кровавый исход трагедии, сочиненной и разыгранной благороднейшими детьми". "Это были поистине дети, - поясняет он,-ибо, если бы это были взрослые люди, они поняли бы, что необходимость обманывать солдат и народ, поднимая знамя, которое всегда было знаменем империи и абсолютизма, была неопровержимым доказательством неосуществимости их предприятия. Если б они только упомянули о республике или о конституции, они остались бы непонятыми; но если бы они объявили об уничтожении императорской власти и империи, их же солдаты и народ перебили бы их на месте. Жалкие люди, слишком скоро и преждевременно созревшие в теплицах иноземного воспитания, они, падая раньше времени, остановили рост национального дерева и того плода, который созревал, несмотря на заморозки, и который мог бы стать достоянием всего народа".
В этой тираде заключен намек на какие-то конструктивные пункты программы, которую могли бы начертать на своем знамени прогрессивные, по мнению Лобанова, элементы дворянства. Это высказывание перекликается с одним из образов лермонтовской "Думы", где поэт обращает свой взгляд не на требовательных и осуждающих потомков, а на предшественников опустошенного поколения: "Богаты мы, едва из колыбели,// Ошибками отцов и поздним их умом..." Если не расшифровать эти строки как намек на поражение декабрьского восстания и укор за погубленное преждевременным выступлением дело, они остаются совершенно не объясненными.
Но "Дума" написана в 1838 году. Стремительное творческое развитие Лермонтова уже к 1840 году увело его от политической идеологии просвещенного дворянства к более широким взглядам.
5
Касаясь неудач экспедиций чеченского отряда, в котором служил Лермонтов в 1840 году, один из дореволюционных военных историков писал: "Эти походы доставили русской литературе несколько блестящих страниц Лермонтова, но успеху общего дела не помогли"*. Создается впечатление, что между поэтическим и историческим пониманием значения битвы при Валерике существовал огромный разрыв. Между тем сражение 11 июля 1840 года оставило неизгладимый след в памяти всех его участников и имело для них важное психологическое значение.
* (Из воспоминаний Г. И. Филиппсона. - Русский архив, 1884, кн. I, с. 370)
Лобанов писал уже в 1844 году: "Весною 1840 года начальник 20-й дивизии г. Галафеев ходил по Чечне и имел огромные потери без результатов. - Тут были дела жаркие, и самое ужасное из всех это было дело на речке Валерик".
По свежим следам событий Эрнест Штакельберг писал Константину Бенкендорфу 1 августа 1840 года: "Да, это было славное дело 11 июля. Вся Чечня поджидала нас у ручья Валерик (по-чеченски "ручей смерти") и заняла укрепленную позицию с центром и двумя флангами. .. под предводительством самых грозных вождей этой страны. Это был хороший момент, когда мы бросились в атаку. - Куринцы под звуки музыки бросились в середину под градом пуль, взяли приступом завалы, где произошла настоящая бойня. У нас вышло из строя 23 офицера и 345 солдат, чеченцы потеряли 600 своих, прошла неделя, пока мы собрали наших жертв фанатизма. Среди них из гвардейских один убит и четверо ранено, между другими Глебов, конногвардеец... Это самое красивое дело, которое я видел на Кавказе, и я счастлив, что в те несколько дней, которые я провел на левом фланге, мне удалось быть его свидетелем"*.
* (ЦГАОР, ф. 1126, оп. 1, № 334, л. 27. Перевод с фр)
Эти письма лишний раз подтверждают, что Лермонтов останавливал свой взгляд художника на тех событиях, которые наиболее волновали его современников. Уже в апреле 1841 года поэт с волнением рассказывал в Москве Ю. Ф. Самарину о сражении 11 июля 1840 года. Между тем после валерикского боя Лермонтов еще не раз испытывал "сильные ощущения этого банка", участвуя в осенней чеченской экспедиции, командуя отрядом дороховских смельчаков. Видимо, в воспетом Лермонтовым сражении соединились все те элементы, которые вызывали кавказских офицеров на размышления: жестокое кровопролитие, равное мужество и удальство обоих противников, бесплодность этой битвы (осенью чеченский отряд вернулся в тот же Гехинский лес, к той же речке Валерик) и неблагодарность Николая I, отказавшего в военных наградах многим участникам валерикского сражения.
В сражении при Валерике Лермонтов был окружен товарищами по кружку "шестнадцати". Все они разделяли общие настроения наиболее сознательной части гвардейских офицеров, о которой писал французский путешественник де Кюстин, посетивший Петербург в 1839 году: "Я видал в России людей, краснеющих при мысли о гнете сурового режима, под которым они принуждены жить, не смея жаловаться; они едут на войну в глубине Кавказа, чтобы там отдохнуть от ига, тяготеющего на них на родине. Эта печальная жизнь накладывает преждевременно на их чело печать меланхолии, контрастирующую с их военными привычками и беззаботностью их возраста; морщины юности обличают глубокие скорби и вызывают живейшее сострадание; эти молодые люди заимствовали у Востока его серьезность, у воображения северных народов - туманность и мечтательность: они очень несчастны и очень привлекательны; ни один обитатель иных стран не походит на них"*.
* (Custine de marquis. La Russie en 1839, t. IV. Paris, 1843, p. 462. Ср.: Нечаев В. Воспоминания французского путешественника маркиза де Кюстина. - Русская быль, т. III, Николаевская эпоха. М., 1910, с. 125)
Кюстин был свидетелем типичного движения, поразившего его своим контрастом с лицемерием большинства петербургского светского общества. "В ту эпоху существовали только две дороги в России: первая, доступная единственно для весьма немногих привилегированных лиц, шла из Петербурга в Париж; вторая, открытая для всех остальных, вела на Кавказ.. ."* - говорил Карл Ламберт, которого мы видим на Кавказе рядом с Лермонтовым. "Я здесь в Ставрополе уже с неделю, - пишет поэт А. А. Лопухину 17 июня 1840 года, - и живу вместе с графом Ламбертом, который также едет в экспедицию. .." (т. VI, с. 454).
* (Мартынов Н. С. Экспедиция действующего Кавказского отряда за Кубанью в 1837 году под начальством генерал-лейтенанта Вельяминова.- В кн.: Нарцов А. Н. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых. Приложения. Тамбов, 1904, с. 154-155)
И. С. Мартынов, пересказавший вышеприведенное мнение Ламберта, добавлял: "Это была настоящая эмиграция". Слова графа Ламберта приобретают особенный вес, потому что он сам принадлежал к тем привилегированным лицам, которые по своим родственным связям и социальному положению имели возможность беспрепятственно получить годовой отпуск за границу. В Отдельный кавказский корпус Ламберт явился прямо из Неаполя, где получил 10 февраля 1840 года "высочайшее соизволение" на свою просьбу о переводе в один из полков закавказской армии*. Объездив всю Европу, Ламберт провел несколько месяцев в Париже, посещая там литературные и политические салоны, и был интересным собеседником для Лермонтова. В Ставрополе, подобно Лермонтову, он принадлежал к "цвету молодежи", который группировался осенью 1840 года вокруг И. А. Вревского и ссыльного декабриста А. М. Назимова. В Кисловодске Григорий Гагарин рисует его в общей группе с "шестнадцатью". В августе 1840 года Карл Ламберт участвовал в сражении при Валерике.
* (ЦГАОР, ф. 785, оп. 1, № 136, л. ЮЗоб., 104. Письмо К. О. Ламберта Я. О. Ламберту из Неаполя от 12(24) февраля 1840 г. и № 134. Письмо И. К. Ламберта Я. О. Ламберту от 24 апреля 1840 г. из Одессы. Перевод с фр)
Рядом с ним в том же сражении - Валериан Канкрин, двадцатилетний сын министра финансов, прапорщик лейб-гвардии Измайловского полка, прикомандированный к Куринскому егерскому полку. "Он приготовлен уже к тем трудностям и лишениям, которые ожидают его на новом избранном им поприще, желание ознакомиться с коими и составляет главную цель его похода", - писал о нем отец 12 февраля 1840 года, снабдив сына целой кипой рекомендательных писем. Е. Ф. Канкрин предупреждает в одном из них об опасности для молодого офицера "быть вовлеченным" (куда?) и просит наблюдать за ним. Доверенное лицо министра сообщает ему из Ставрополя: "Графа во время бытности его в Ставрополе посещал я почти ежедневно и часто находил его одного за чтением книг, а иногда беседовавшим с одним или двумя офицерами"*. Канкрин, явившийся в Ставрополь 6 декабря 1840 года, назван среди молодежи, посещавшей дом Вревского. Таким образом, по своему духу и Ламберт и Канкрин принадлежали к тому слою военной молодежи, который был ярко представлен в кружке "шестнадцати" "бывшими кавказскими офицерами", вновь отправившимися в действующий отряд кавказской военной линии.
* (ИГИАЛ, ф. 1570, оп. 1, № 11, л. 2, 47, 50, 43)
В наградном списке командир отряда генерал Галафеев писал о Лермонтове: "Во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы".
На правом фланге этой штурмующей колонны за действиями наблюдали Александр Долгорукий и Карл Ламберт и тоже "с первыми рядами храбрейших ворвались в неприятельские завалы". Фредерике и Сергей Трубецкой, посланные к левой штурмовой колонне, "первые бросились вперед, одушевляя окружающих солдат примером неустрашимости". Солдат "правой штурмовой колонны" "с опасностью" "увлекли за собой" Жерве и Монго-Столыпин*.
* (ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 3, стол 1, св. 1094, № 223. "По представлению командования Отдельного кавказского корпуса о пожаловании наград генералу, штаб- и обер-офицерам, медицинским и нижним чинам и азиатцам, за отличие противу горцев в 1840 году в Большой и Малой Чечне")
Участвовали они вместе с Лермонтовым и в осенней экспедиции, проводили осень и зиму 1840 года в Ставрополе и Тифлисе, а в феврале 1841-го потянулись вслед за Лермонтовым в Петербург.
"Как ужасна эта кавказская война, с которой офицеры возвращаются всегда больными и постаревшими на десять лет, исполненные отвращения к резне, особенно прискорбной потому, что она бесцельна и безрезультатна",- писала С. Н. Карамзина еще в 1837 году*.
* (Пушкин в письмах Карамзиных 1836-1837 годов. М. - Л., Изд-во АН СССР, 1960, с. 215)
Товарищи Лермонтова вернулись в Петербург , охваченные подобными же настроениями. Разочарование в целях и методах ведения войны на Кавказе заставило каждого из них (кроме Кс. Браницкого и Лобанова) настойчиво добиваться возможности остаться в России. Это удалось А. Долгорукому, который по истечении положенного срока вернулся в Царское Село в апреле 1841 года, но Н. А. Жерве, А. А. Столыпин (Монго) и С. В. Трубецкой должны были снова отправиться на Кавказ.
Дела о высылке одновременно с Лермонтовым обоих его будущих секундантов - Столыпина и Трубецкого (о Жерве переписка не сохранилась) дают яркий материал для понимания положения Лермонтова весной и летом 1841 года.
21 февраля 1841 года Монго-Столыпин обратился с официальным письмом к Бенкендорфу. Ссылаясь "на семейные дела и родственные связи", на близость смерти престарелых Н. С. и Г. А. Мордвиновых, он просил шефа жандармов ходатайствовать перед царем о причислении его "к такому роду службы"-, который позволил бы ему "провести недолгое остальное время при деде и бабке, а потом, - добавляет Столыпин, - что будет угодно его величеству, то пусть и будет со мною".
Несмотря на чрезвычайные обстоятельства Столыпина, Николай ему отказал: "обращался я с просьбой к господину генерал-адъютанту князю Меншикову об удостоенин меня чести быть его адъютантом, но высочайшего соизволения на сие не последовало", - пишет А. Столыпин в том же письме.
Царь остался непреклонен. "Полк, и ежели действительно усерден, то пусть покажет, то я награжу и для старика и для него", - надписал он собственноручно на этом письме. Разъясняя "высочайшую волю" в ответном письме А. А. Столыпину, Дубельт писал 27 февраля 1841 года: "...как Нижегородский драгунский полк назначен в полном составе своем действовать против неприятеля, а потому вы, без сомнения, сами пожелаете воспользоваться случаем - еще более доказать на самом деле усердие ваше к службе, - и если вы, одушевляемые оным, поспешите возвратиться в полк и явите в рядах его новые и убедительные опыты сего усердия, тогда его императорское величество не преминет удостоить почтеннейшего деда вашего графа Николая Семеновича Мордвинова и вас самих знаками особенного своего монаршего благоволения"*.
* (ЦГАОР, ф. 3, отд. 109, экспед. 2, № 258)
Николай I имел свои личные причины преследовать Столыпина-Монго*. Злопамятность царя была так сильна, что в обществе на многие годы передавались рассказы о его ненависти с Столыпину. Так, Б. Н. Чичерин, характеризуя Николая I, вспоминал: "Он терпеть не мог совершенно безобидного Монго-Столыпина за то, что ом слыл первым красавцем в Петербурге"**. К другим из "шестнадцати" царь отнесся в 1841 году гораздо мягче. Но особым преследованиям подвергался князь Сергей Васильевич Трубецкой. Он принадлежал к тому же семейству, что и "знаменитая петербургская красавица"*** Мария Васильевна Столыпина и Александр Васильевич Трубецкой, фаворит императрицы, автор "Рассказа об отношениях Пушкина к Дантесу".
* (См. главу "Лермонтов и двор", с. 59-60)
** (Чичерин Б. Н. Воспоминания (1803-1845). - ЦГИАМ, ф. 1154, ед. хр. 1, т. I, л. 149)
*** (Так назвал ее Л. Н. Толстой в "Хаджи-Мурате")
В обществе Сергей Трубецкой оставил после себя славу "знаменитого и высокодаровитого проказника"*. Вспоминали, что он был "нелепым человеком" (Ф. Тютчев)**, "с умом, образованием, наружностью... прокутившим всю свою жизнь, как наиболее часто случается у нас с людьми счастливее других одаренными" (П. X. Граббе), "человеком необыкновенных дарований, погубившим их чересчур широкой жизнью" (П. И. Бартенев)***
* (Русский архив, 1884, т. II, № 5, с. 62. Примеч. П. И. Бартенева).
** (Старина и новизна, т. XVIII. СПб., 1914, с. 27)
*** (Сборник биографий кавалергардов. 1826-1908. Составлен С. Панчулидзевым, т. IV. СПб., 1908, с. 74)
В 1851 году за увоз от мужа-деспота молоденькой Жадимировской Трубецкой был посажен Николаем I в страшный Алексеевский равелин. Отсидев там свой срок, лишенный титула, чинов, знаков отличия, он был отдан в солдаты в один из пехотных полков в Петрозаводск, а затем в Оренбургский край. Через несколько лет Трубецкой получил отставку и умер в 1858 году в своем сельце Сапун Муромского уезда. Там с ним жила уже разведенная Жадимировская, любившая его.
Драматическая судьба С. Трубецкого привлекла внимание советского историка и литературоведа П. Е. Щеголева. Он посвятил несчастному очерк "Любовь в равелине", входящий в состав его книги "Алексеевский равелин" (М., 1929)*. Щеголев пользовался документами бывшего Департамента полиции и красочно описал подробности погони за беглецами**. Но сейчас разыскано большее количество документов о С. Трубецком. Из них выясняется, что пристальное внимание царя к нему определилось уже давно. Весьма неровное начало службы С. Трубецкого в кавалергардском полку оборвалось его высылкой из Петербурга за "шалость" (это было общее дело с Н. А. Жерве и еще одним кавалергардом). Трубецкой был переведен на юг осенью 1835 года под наблюдение известного своей шпионской деятельностью И. О. Витта - начальника всех военных поселений в Новороссии. Два года, которые С. Трубецкой прослужил там в Орденском кирасирском полку, отмечены систематическими "секретными", "весьма нужными" предписаниями от имени царя об усилении строжайшего надзора за ненавистным ему офицером***. В 1837 году, осенью, С. Трубецкой был возвращен в Петербург и определен в лейб- гвардии кирасирский полк****. Родные нашли, что за два года своей ссылки Сергей "остепенился"*****. Но тут с ним стряслась новая беда.
* (Перепечатан в 1977 г. в № 12 журнала "Наука и жизнь")
** (См. кн.: Щеголев П. Е. Алексеевский равелин. М., 1929)
*** (ЦГВИА, ф. 395, 856 инспекторского департамента военного министерства, стол 2, св. 84. По секретной части № 100)
**** (См. примеч. 92)
***** (См. ниже письмо С. А. Бобринской мужу от 1 февраля 1938 г)
Открылась, по выражению П. А. Вяземского, "романическая история или исторический роман" С. В. Трубецкого с фрейлиной двора Екатериной Петровной Мусиной-Пушкиной.
"Катрин Пушкина пошла, глупа, как мало женщин на земле, - ни зернышка здравого смысла в голове и никаких принципов поведения в сердце. Тот, кто женится на ней, будет отъявленным болваном, над которым она же не стесняясь станет издеваться, обуреваемая страстью к десяти другим, ибо в этом она превзошла всех"*.
* (См. примеч. 87, с. 341)
Этим несчастным оказался Сергей Трубецкой.
С. А. Бобринская, его двоюродная сестра, писала 1 февраля 1838 года своему мужу: "Нужно тебе рассказать последнюю новость. Ту, которая занимает все умы, как когда-то наводнение, как пожар Дворца, как смерть Пушкина год тому назад - как, наконец, все, что выходит за рамки обычной жизни, как неслыханная и ужасная катастрофа, - это женитьба Сергея Трубецкого на мадемуазель Пушкиной! Да, да - они женаты, она поселена в доме моего дяди, и не далее как сегодня утром тетя привела ее ко мне, и я насколько могла устроила своей новой кузине самый радушный прием"*.
* (ЦГАДА, ф. 1412, оп. 1, № 123, л. 7об. Перевод с фр)
Отчего же поднялся такой шум, позволивший Бобринской кощунственно сравнивать скандальный брак Сергея Трубецкого с гибелью Пушкина?
Сенатор Дивов записал в своем дневнике за февраль:
"В городе только и говорят о свадьбе девицы Пушкиной с к нязем Трубецким. В этом браке будто бы принимает живое участие император. Венчание происходило в Царском Селе"*.
* (Русская старина, 1902, № 6, с. 633)
"Молодые" были обвенчаны, якобы во второй раз в присутствии Николая I, в городе пошли толки. 25 февраля 1838 года Вяземский, сообщая об этой сплетне А. И. Тургеневу, писал: "Для большей однако же достоверности, сказывают, что еще раз их здесь перевенчали. Легко понять, какой это был удар Трубецкой-матери! Она дни три после того не плясала"*. Молодые супруги разъехались уже летом 1838 года, после рождения дочери. А. И. Тургенев сразу после приезда в Петербург из-за границы, уже в августе 1839 года, записал в своем дневнике по поводу сем ейного скандала Трубецких: "И все это при дворе и близко!"**
* (Остафьевский архив князей Вяземских, т. IV. СПб., 1899, с. 25)
** (ИРЛИ, ф. 309, № 316, л. 5)
Царь систематически и упорно преследовал Сергея Трубецкого еще до увоза Жадимировской.
В конце декабря 1839 года Трубецкой был снова переведен, на этот раз - на Кавказ. Причиной указывались "шалости", крайняя недисциплинированность, дерзкие выходки. В таком же духе отзывались о Сергее Трубецком современники, на основании чего П. Е. Щеголев изобразил в своем очерке фигуру типичного кавалергарда, сродни Дантесу. Но мы располагаем совсем другой характеристикой друга Лермонтова. Принадлежит она опальному генералу А. П. Ермолову.
9 февраля 1840 года Ермолов рекомендует С. Трубецкого своему бывшему адъютанту, назначенному командующим войсками на кавказской военной линии, П. X. Граббе. Сергей Трубецкой был известен отставленному от дел полководцу, "по отзывам многих", как "молодец и весьма неглупый". "Разные обстоятельства понудили его оставить выгоды служения в гвардии, - пишет Ермолов, - и искать сколько возможно вознаградить потери с доброй волею, пламенным усердием решаясь посвятить себя всем трудам службы и опасностям, с нею сопряженным. Возьми под сильное покровительство свое молодого сего человека и время от времени останови внимание твое на том, который все употребит усилия его сделаться достойным. Употреби его так, чтобы не был он праздным. У тебя нет недостатка в случаях доставить занятие, а он хорошо весьма знает, что никаким другим образом ничего у тебя не достанет. По сей причине я не затруднился просить тебя о нем"*.
* (ЦГВИА, ф. 62, оп. 1, № 15, л. 14)
Трубецкой, "прикомандированный по кавалерии к Гребенскому казачьему полку", оправдал доверие, оказанное ему прославленным полководцем. 11 июля 1840 года в сражении при Валерике он и Д. П. Фредерике, как мы уже говорили, были посланы к левой штурмовой колонне и "первые бросились вперед, одушевляя окружающих солдат примером неустрашимости".
В этом сражении Трубецкой был тяжело ранен. "Серж Трубецкой ранен в шею, надеются, что рана не тяжелая, об этом мне вчера написал император", - пишет императрица С. А. Бобринской 18 августа 1840 года из Фишбаха*. О ранении Трубецкого много говорили и в Москве и в Петербурге: товарищи, описывая это сражение в письмах к родным и друзьям, всегда упоминали о ране Трубецкого.
* (ЦГАОР, ф. 851, оп. 1, № 17, л. 96. Перевод с фр)
Осенью 1840 года Трубецкой пробыл до ноября в Ставрополе, где, так же как Лермонтов, Монго-Столыпин, Ламберт, Канкрин и А. Долгорукий, посещал дом Вревского.
В октябре Трубецкой получил разрешение на отпуск в Петербург, но не мог своевременно им воспользоваться по болезни. Уже в январе, ожидая в Бахмуте официального перенесения срока отпуска, он получил известие о смертельной болезни отца. Не дождавшись ответа, он ринулся в Петербург, приехал туда 20 февраля 1841 года, но опоздал. Старого князя В. С. Трубецкого похоронили 12 февраля. Николай I был при выносе, потом провожал тело верхом, во главе кавалергардского полка.
Тут произошло недоразумение, испортившее настроение царю, который, доехав только до Литейного, вернулся во дворец. Два кавалергардских офицера, Челищев и Апраксин, допустили неисправность при принятии штандарта из Зимнего дворца. Оба были переведены в армию, командир полка посажен под арест. "Вся эта история очень неприятна, - писал наследник великой княгине Марии Николаевне 25 февраля 1841 года, - и произвела очень дурное впечатление на публику, которая и без того любит все критиковать и контролировать. Мама, от которой это хотели скрыть, в конце концов все узнала, это, как всегда, послужило причиной ее слез-все это, повторяю, очень неприятно, надеюсь, что это скоро позабудут"*.
* (ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1193, л. 117-117об. Перевод с фр)
Письмо наследника жнво иллюстрирует напряженную атмосферу в императорском Петербурге, где все страдали от произвола и капризов Николая Павловича. Челищева и Апраксина простили в день свадьбы наследника, но ничто не могло смягчить неугасающий гнев Николая на Сергея Трубецкого. Придравшись к тому, что сын покойного приехал в феврале в Петербург, не имея официального разрешения, царь подверг его мелочной и жестокой опеке.
В ответ на просьбу Трубецкого о продлении отпуска для лечения от раны и устройства дел по смерти отца Николай I приказал освидетельствовать больного лейб-медику Вилье. "Это необыкновенное счастье, - писал последний, - что пуля скользнула, так сказать, или только задела дыхательное горло, а не пробила его насквозь; иначе последствия такого ранения могли бы быть смертельны".
По распоряжению Вилье Трубецкого оперировали, пуля была вынута. Лейб-медик сообщал, что для окончательного излечения понадобится три месяца. Однако 28 февраля Клейнмихель послал Вилье "высочайшее повеление", чтобы он, Вилье, "каждую неделю лично осматривал сего офицера", и, - добавлял Клейнмихель,- "коль скоро найдете рану его в таком положении, что путешествие в экипаже ему вредно не будет, уведомили бы о том меня, для всеподданнейшего его величеству доклада и распоряжения о выезде князя Трубецкого к месту его служения на Кавказе". Этими строжайшими мерами Николай I не ограничился. Он посадил Трубецкого под домашний арест. Об этом офицера извещал Клейнмихель:
"Государь император по всеподданнейшему докладу отзыва главного инспектора медицинской части по армии о сделанной вам операции высочайше повелеть соизволил: дозволить вам оставаться здесь для пользования до возможности отправиться к полку в экипаже, но предписать вам, чтобы вы ни под каким предлогом во время вашего лечения из квартиры вашей не отлучались, так как вы прибыли сюда без разрешения начальства".
В деле сохранился доклад Вилье о состоянии здоровья оперированного Трубецкого, на котором рукой военного министра Чернышева написано: "Доложено его величеству 22 марта". Эти всеподданнейшие доклады об одном офицере продолжались до самого отъезда Трубецкого из Петербурга в Ставрополь 25 апреля 1841 года*.
* (ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 4, № 387. Начато 26 февраля 1841 г. Кончено 25 апреля 1841 г)
В это время Лермонтов, на глазах у которого происходили все треволнения Трубецкого, уже выехал из Петербурга (14 апреля). В Москве, где он задержался на пять дней, его навестил Ю. Ф. Самарин. "Мы долго разговаривали,- записывает он. - Он показывал мне свои рисунки. Воспоминания Кавказа его оживили. Помню его поэтический рассказ о деле с горцами, где ранен Трубецкой... Его голос дрожал, он был готов прослезиться. Потом ему стало стыдно и он, думая уничтожить первое впечатление, пустился толковать, почему он был растроган, сваливая все на нервы, растворенные летним жаром. В этом разговоре он был виден весь. Его мнение о современном состоянии России: хуже всего не то, что некоторые люди терпеливо страдают, а то, что огромное большинство страдает, не сознавая этого".
Не случайно собеседник Лермонтова называет сражение при Валерике "делом с горцами, где ранен Трубецкой...". Многоточие, поставленное самим Самариным, восстанавливает для нас пропущенную ассоциацию. Между политическими выводами Лермонтова и издевательствами, которым подвергал Трубецкого Николай I, была прямая связь. Каждый эпизод, ранящий чувство человеческого достоинства и напоминающий о неограниченной власти царя-самодура, приводил к размышлениям об общем политическом положении страны.
Приблизительный ход мыслей Лермонтова можно восстановить.
Царизм ведет на Кавказе жестокую агрессивную войну. При этом офицерский состав кавказской армии в значительной своей части состоит из ссыльных. Таковы участники сражения при Валерике. Царь не ценит их военной доблести. Раненый Трубецкой отправляется на Кавказ с фельдъегерем, как преступник. После смерти отца, которого он не застал, Трубецкого держат в Петербурге под домашним арестом (где, конечно, его навещал Лермонтов). Столыпину (который все же получил Станислава 3-й степени) не разрешено остаться в Петербурге, несмотря на тяжелые семейные обстоятельства. Лермонтову отказано в наградах, хотя его представляли даже к золотому оружию. У поэта отнята возможность заниматься своим прямым делом-литературным. Ему не оставлено никакой надежды. Все эти преследования со стороны Николая I диктуются его личными прихотями. Монарх расправляется с гвардейскими офицерами, как с крепостными рабами. Царь правит страной, как помещик своей вотчиной. Народ еще не созрел, чтобы осознать, где коренятся причины всех его бедствий и унижений. Пока не подымется крестьянство, поэту, интеллигенции, лучшим офицерам остается только "терпеливо страдать".
...То иль другое наказанье? Не все ль одно. Я жизнь постиг; Судьбе как турок иль татарин За все я ровно благодарен; У бога счастья не прошу И молча зло переношу.
Эти фаталистические настроения, имеющие свою философскую традицию, можно объяснить также трезвым политическим анализом "современного состояния России", который Лермонтов и произвел в беседе с Самариным 1841 года. "Да, - возразят мне, - но "Валерик" написан в 1840-м!" А из чего это видно? Наоборот, запись Самарина отмечена чертами, позволяющими думать, что даже в апреле 1841 года "Валерик" не был еще написан. Показывая Самарину кавказские рисунки и рассказывая о валерикском сражении, Лермонтов обязательно прочитал бы собеседнику свое стихотворение, если бы оно было уже закончено. Вспомним, как он принес Самарину "Спор", написанный тогда же в Москве, в 1841 году.
Через год после смерти Лермонтова Самарину доставили с Кавказа копию "Валерика" с надписью "подарено автором". Черновой автограф был подарен Льву Арнольди Столыпиным тоже на Кавказе. Очевидно, Лермонтов написал "Валерик" в Пятигорске в 1841 году. Кстати говоря, при первой публикации "Валерика" в 1843 году указывалось, что это "последнее стихотворение Лермонтова".
1840 годом "Валерик" датируется по примитивной биографической связи. "Написано после сражения 11 июля 1840 года", - говорят нам комментаторы.
Е. М. Пульхритудова, автор статьи о "Валерике" в "Лермонтовской энциклопедии", отвергла мою передатировку, считая, что приведенные мною доводы "нельзя признать убедительными". Однако, останавливаясь на философском и историко-литературном содержании одного из значительнейших произведений Лермонтова, исследовательница игнорирует психологию творчества поэта. Дрожащий голос Лермонтова, рассказывающего Самарину о сражении при Валерике, слезы на глазах, желание оправдаться в непрошеном волнении, - разве это могло быть, если бы "Валерик" был уже написан, то есть все личные эмоции были бы уже переплавлены в гармоническое целое? Напротив, этот "поэтический рассказ", как определил его Самарин, вероятно, послужил стимулом для создания "Валерика". Ведь житейские и деловые рассказы об этом сражении уже были у Лермонтова. Так, существует мнение, что "Журнал военных действий", где описано дело 11 июля, вел Лермонтов, настолько детали этой деловой прозы схожи с реалистическим фоном "Валерика". Рассказывается об этом сражении и в письме Лермонтова к А. Лопухину, в сентябре 1840 года: "У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2000 пехоты, а их до 6 тысяч: и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте - кажется, хорошо! - вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью. Когда мы увидимся, я тебе расскажу подробности очень интересные..." Через несколько строк Лермонтов возвращается к этой теме: "Я вошел во вкус войны и уверен, что для человека, который привык к сильным ощущениям этого банка, мало найдется удовольствий, которые бы не показались приторными". Это настроение резко отличается от идей "Валерика", очевидно позднейших, более зрелых.
В пользу передатировки этого произведения следует повторить еще доводы Ираклия Андроникова. В "Дополнениях" к собранию сочинений Лермонтова издательства "Художественная литература" 1965 года, признав мои соображения правильными, он писал (т. IV, с. 511): "Можно прибавить, что "Валерик" вряд ли мог быть написан по следам события, иначе трудно было бы объяснить строку "Раз, это было под Гехами", ибо понятия "раз", "однажды" возникают, когда событие отделено от рассказа временным промежутком. Немаловажно и то, что в первых посмертных собраниях сочинений Лермонтова "Валерик" печатался с датой "1841", выставленной по всем данным А. А. Краевским". (Впрочем, в следующем издании (1975 года) И. Андроников без всяких оговорок оставил прежнюю датировку "1840 год"). Как видим, впечатление от сражения при Валерике сохранялось у Лермонтова долго, и никаких доказательств нет, что стихотворение было написано по свежим следам событий.
Так же примитивно, "по содержанию", датируется другое стихотворение Лермонтова, записанное в альбоме 1840-1841 годов, - "Пленный рыцарь".
Считается, что оно написано в 1840 году, когда Лермонтов сидел под арестом за дуэль с Барантом. Но аллегорию "Пленный рыцарь" не следует толковать слишком прямолинейно, по наивной аналогии с внешними обстоятельствами. Когда Лермонтов принимал гостей на Арсенальной гауптвахте, ждал откликов на "Героя нашего времени" и жаждал перемен, он был далек от мысли о гибели. Все современники отмечают, что он был весел, не унывал; "душа его жаждет впечатлений и жизни",- писал о нем Белинский в 1840 году. "Пленный рыцарь" резко диссонирует с этим настроением.
Мчись же быстрее, летучее время! Душно под новой бронею мне стало! Смерть, как приедем, подержит мне стремя; Слезу и сдерну с лица я забрало.
Энергия и трагизм этих литых строк согласуются со словами поэта об ожидающей его скорой смерти, оброненными при последнем прощании в Петербурге с Е. П. Ростопчиной и Андреем Карамзиным, в Москве - с Ю. Ф. Самариным, в Пятигорске - с Екатериной Выхо вец. Они вызывают в памяти также и образ Лермонтова, нарисованный в письме В. И. Красова, встретившего поэта в Москве в 1841 году: "Я не видел его 10 лет - и как он изменился! Целый вечер я не сводил с него глаз. Какое энергическое, простое, львиное лицо. Он был грустен, и, когда уходил из Собрания в своем армейском мундире и с кавказским кивером, - у меня сжалось сердце- так мне жаль его было. Не возвращен ли он?"*
* (Воспоминания, с. 205)
Когда в 1841 году Лермонтов ехал на Кавказ, перемогая себя, неохотно, и чувствовал, хоть не желал этому верить, что Николай I затягивает вокруг его шеи петлю, его лирика была пронизана темой смерти. Не говоря уже о таких стихотворениях, как "Любовь мертвеца", "Сон" или "Выхожу один я на дорогу...", не останавливаясь на стихотворении "Нет, не тебя так пылко я люблю...", где поэт ведет "таинственный разговор" с давно умершей женщиной, - мы можем проследить, как в лирику Лермонтова последнего года вторгается образ Ленского. В "Смерти поэта" двадцатидвухлетний Лермонтов пишет о создании гения Пушкина прямо, сравнивая участь Ленского с трагическим концом самого Пушкина:
И он убит - и взят могилой, Как тот певец, неведомый, но милый, Добыча ревности глухой, Воспетый им с такою чудной силой, Сраженный, как и он, безжалостной рукой.
В 1841 году тема Ленского проходит как подтекст в стихотворениях "Оправдание" и "Сон". Сравним:
Недвижим он лежал, и странен Был томный мир его чела. Под грудь он был навылет ранен; Дымясь, из раны кровь текла. Тому назад одно мгновенье В сем сердце билось вдохновенье, Вражда, надежда и любовь, Играла жизнь, кипела кровь... (Пушкин, "Евгений Онегин", глава шестая, строфа XXXII)
И будет спать в земле безгласно То сердце, где кипела кровь, Где так безумно, так напрасно С враждой боролася любовь... (Лермонтов, "Оправдание")
Образу романтического поэта начала века, в котором все было гармонично и в кипенье крови и игре жизни чередовались вражда, надежда и любовь, Лермонтов противопоставляет образ поэта переходного времени, призванного выразить раздвоенность сознания своего поколения, в котором не было места надежде.
На то, что в стихотворении "Сон" слышны отзвуки описания гибели Ленского, в литературе уже указывалось. Они даны в двух вариациях, в первой и последней строфах:
В полдневный жар в долине Дагестана С свинцом в груди лежал недвижим я; Глубокая еще дымилась рана, По капле кровь точилася моя. ................................... И снилась ей долина Дагестана; Знакомый труп лежал в долине той; В его груди дымясь чернела рана, И кровь лилась хладеющей струей.
Мотивы гибели, пронизывающие последние стихотворения Лермонтова, были вызваны ясным пониманием конкретных фактов, влиявших на его судьбу. "Он мне всегда говорил, - писала Екатерина Быховец из Пятигорска,- что ему жизнь ужасно надоела. Государь его не любил, великий князь ненавидел, не могли его видеть"*. Тут в наивной форме выражено истинное положение поэта в 1841 году**.
* (Русская старина, 1892, № 3, с. 767. Ср.: Ученые записки Калужского гос. пед. ин-та, вып. IV, 1957, с. 190-192)
** (Против передатировки "Пленного рыцаря" высказался С. Аггдреев-Кривич (см. его книгу "М. Ю. Лермонтов в Кабардино-Балкарии". Пальчик, 1979, с. 170-171). Он сопоставил это стихотворение с "Благодарностью" и "Тучами" 1840 г., прочитав и в них тему тра-гической гибели. Но это неверно: в первом герой просит смерти, отвергая не удовлетворяющую его жизнь, а во втором вообще нет темы гибели, оно посвящено теме изгнания и родины. В "Пленном рыцаре", как и в приведенных мною стихах 1841 г., грядет неумолимый образ непрошеной, неминуемой гибели. Кроме того, лирическим центром этого стихотворения надо признать строку "Душно под новой бронею мне стало". Хотя Лермонтов и не был в этом последнем году под арестом на Арсенальной гауптвахте, беспощадный отказ Николая I дать поэгу отставку по праву мог быть понят Лермонтовым как смертный приговор. Ну а что касается играющих над Невой птиц, видных из окна Арсенальной гауптвахты, то этот традиционный мотив тюремной поэзии мог быть использован Лермонтовым в аллегории "Пленный рыцарь" по воспоминаниям о своем прошлогоднем заключении, а не под свежим впечатлением, как думал Андреев-Кривич)
Каждый, кто встречал в это время Лермонтова, свидетельствовал о его новых творческих планах. Печатая в апрельской книге "Родину", редакция "Отечественных записок" поместила перед стихотворением заметку, в которой сообщалось: "Тревоги военной жизни не позволили ему спокойно и вполне предаваться искусству, которое назвало его одним из главнейших жрецов своих; но замышлено им много и все замышленное превосходно. Русской литературе готовятся от него драгоценные подарки"*. В замаскированном некрологе Лермонтова Белинский, сообщая о задуманной покойным исторической эпопее, писал: "Уже кипучая натура его начинала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые..."** Е. А. Свербеева писала 10 мая 1841 года А. И. Тургеневу: "Лермонтов провел в Москве пять дней, он поспешно уехал на Кавказ, торопясь принять участие в штурме, который ему обещан. Он продолжает писать стихи со свойственным ему бурным вдохновением"***. Свербеева дает понять А. Тургеневу, что Лермонтову не было разрешено оставаться дольше в Москве и было предписано скорее отправляться в армию. Лермонтов был в это время уже в Ставрополе и писал оттуда Карамзиной: "Я не знаю, будет ли это продолжаться; но во время моего путешествия мной овладел демон поэзии, или - стихов. Я заполнил половину книжки, которую мне подарил Одоевский..." (VI, 759).
* (Отечественные записки, 1841, т. XV, № 4, отд. IV, с. 68)
** (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. V. М, Изд-во АН СССР, 1954, с. 455. ИРЛИ, ф. 309. Перевод с фр)
*** (ИРЛИ, ф. 309. Перевод с фр)
В том же письме Лермонтов пишет:
"Итак, я уезжаю вечером. Признаюсь вам, что я порядком устал от всех этих путешествий, которым, кажется, суждено длиться вечно... Пожелайте мне счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что только можно мне пожелать".
Резкий контраст между той судьбой, которую Николай I придумал для Лермонтова, и огромной творческой силой поэта сквозит в каждом из приведенных писем. Характерно, что параллельно с мотивами гибели в поэзии Лермонтова последнего года появляется образ "пленного рыцаря" или "царевича" с сильной боевой рукой, застиг- гнутого враждебной судьбой.
"Он говорил мне о своей будущности, о своих литературных проектах, и среди всего этого он проронил о своей скорой кончине несколько слов, которые я принял за обычную шутку с его стороны. Я был последний, который пожал ему руку в Москве", - писал Ю. Самарин И. Гагарину 3 августа 1841 года*.
* (Воспоминания, с. 300)
Общие контуры литературных замыслов Лермонтова можно реконструировать на основании его последних произведений- "Спора" и "Кавказца".
6
"Смерть нашла его между величавых гор Кавказа, посреди обильной, уму и сердцу говорящей деятельности",- писал о поэте А. В. Дружинин*. Критик высоко оценивал творчество Лермонтова последнего года жизни. Однако, говоря о "деятельности", он имел в виду военную службу поэта. Он намекал не только на общеизвестную храбрость и профессиональное умение Лермонтова-офицера, но и на другие стороны его военной жизни. "Только один период из жизни поэта известен с некоторою подробностью, мы говорим про кавказскую службу", - писал он.
* (Литературное наследство, 1959, № 67, с. 635)
Утверждая, что "память о Лермонтове до того свежа на Кавказе, что сотни сведений о его жизни придут к биографу сами, по первому востребованию", А. В. Дружинин не смог тем не менее поделиться с читателем собранными там известиями. "Но и тут с новой силой встречается препятствие, о котором мы уже говорили, - объясняет он, - все почти лица, имевшие хорошее или дурное влияние на Лермонтова в этот период, еще живы, и касаться его сношений с ними никакой биограф не имеет права"*.
* (Дружинин А. В. Собр. соч., т. VI. СПб., 1865, с. 672)
Дружинин писал свою статью в 1860 году, когда никого из известных нам кавказских друзей Лермонтова не было уже в живых. Очевидно, автор имел в виду какие- то другие связи поэта в кавказской армии. Возможно, их учитывал и П. К. Мартьянов, когда после расспросов в 1870 году В. И. Чилаева заявил: "Лермонтов рвался "в высшие сферы влияния и дела"*.
* (Мартьянов П. К. Дела и люди века, т. II. СПб., 1893, с. 50)
Трудно восстановить в полном объеме, кого имел в виду Дружинин, называя кавказских военных деятелей, имевших влияние на поэта. Больше всего данных сохранилось о сношениях Лермонтова с П. X. Граббе.
Расположение П. X. Граббе к поэту известно. Генерал ценил талант Лермонтова и старался доставить ему возможность отличиться в делах.
После валерикского сражения и осеннего дела, где Лермонтов командовал дороховским отрядом, П. X. Граббе назначил его состоять при себе "во время второй экспедиции в Большой Чечне с 9-го по 20-е число ноября" 1840 года. В наградном списке это решение мотивировано "отличной службой поручика Лермонтова и распорядительностью во всех случаях, достойных особенного внимания". Эти качества, как сказано в наградном списке, "доставили ему честь быть принятым г. командующим войсками в число офицеров, при его превосходительстве находившихся"*.
* (Тенгинский полк на Кавказе. 1819-1846. Составил поручик Ракович. Приложения. Тифлис, 1900, с. 33)
Описывая в своих воспоминаниях встречи с Лермонтовым в Ставрополе у Граббе, А. И. Дельвиг показывает, с каким уважением относился к поэту командующий войсками. "За обедом всегда было довольно много лиц, но в разговорах участвовали Граббе, муж и жена, Лев Пушкин, бывший тогда майором, поэт Лермонтов, я и иногда еще кто-нибудь из гостей. Прочие все ели молча. Лермонтов и Пушкин называли этих молчальников кар- тинною галереею"*. Первую встречу с поэтом в доме Граббе Дельвиг датирует 6 января 1841 года. Около 14-го Лермонтов получил от командующего частное письмо для передачи в Москве А. П. Ермолову. Граббе упоминает об этом в другом своем письме к А. П. Ермолову, написанном уже 15 марта. "Кн. Эристов, - пишет он,- доставил на прошлой неделе нашего выборного человека с письмом вашим от 17 пр(ошлого) месяца. В этом письме вы упоминаете о г. Бибикове, о котором вы за три дня перед тем писали ко мне, в ожидании его я замедлил ответом на последнее, не имея сведения, получены ли два письма мои к вам, одно по почте, другое с г. Лермонтовым отправленное. Но ни г. Бибикова, ни этого сведения еще покуда нет. Долее ответа откладывать не смею и не могу"**.
* (Дельвиг А. И. Мои воспоминания. М., 1913, т. 1, с. 296-297)
** (Андреев - Кривич С. А. Лермонтов. Вопросы творчества и биографии. М" Изд-во АН СССР, 1954, с. 95. Ср.: А и д р о н и- к о в И. Лермонтов. М., Советский писатель, 1951, с. 277-291)
Письмо это (впервые опубликованное С. А. Андрее- вым-Кривичем) дало повод для многих толкований характера неофициальных отношений П. X. Граббе с бывшим "проконсулом Кавказа" и об участии в этом Лермонтова. Правда, не было учтено, что московская встреча Лермонтова с Ермоловым в январе 1841 года была, вероятно, не единственной.
Так, двоюродный дядя поэта, П. И. Петров, оказывавший ему покровительство в Ставрополе в 1837 году, в прошлом был одним из любимых и высокоценимых Ермоловым его адъютантов. Петров принадлежал к числу культурнейших и передовых людей своего времени и сохранял дружеские отношения с отставленным полководцем до конца своих дней. В семействе Петровых царил настоящий культ Ермолова*. Возможно, что и до 1841 года Лермонтов тоже имел случай видеть опального генерала.
* (Богданова О. Э. Архивные материалы о П. И. Петрове - родственнике М. Ю. Лермонтова. - В сб.: Михаил Юрьевич Лермонтов. Ставрополь, 1960, с. 273-279)
Мы уже говорили, что С. В. Трубецкой явился к Ермолову в феврале 1840 года и получил от него отличную рекомендацию (заметим кстати, что двоюродный брат Трубецкого, Н. А. Самойлов, в 20-х годах служил под началом Ермолова). В это время в Москве установилось настоящее паломничество к популярному полководцу. Так, из участников валерикского сражения с письмом от Ермолова явился также В. Е. Канкрин. Возможно, что и Лермонтов, назначенный в Тенгинский пехотный полк, не отказался от возможности обратиться к Ермолову, и этим объясняется его решение проситься в 1840 году в чеченский отряд, к Граббе. "Надобно отдать справедливость благородной гвардейской молодежи, что, по какой- то надежде более жарких действий на левом фланге, все просились ко мне, и я по настоятельному наряду только мог немножко отправить на Кавказ и на правый фланг", - писал П. X. Граббе А. П. Ермолову в 1840 году.
Вспомним, что военный министр А. И. Чернышев, отмечая "чрезмерно пылкую молодость" М. Б. Лобанова- Ростовского, указывал, что он, "как и вся тамошняя молодежь", "питает чрезмерное пристрастие к Ермолову". Многие разоблачения Лобанова Чернышев старался отвести, мотивируя это тем, что автор "Записки" воевал только "на левом фланге".
Всей кавалерией на левом фланге командовал полковник князь В. С. Голицын, 4 января 1840 года А. П. Ермолов дал ему блистательную рекомендацию.
"К тебе отправляющийся полковник князь Голицын, податель письма сего, хоть известный тебе, убедительно просил меня рекомендовать его в твое расположение, ты знаешь его как умного человека и храброго офицера, а я прибавлю к тому, что в бытность его в Грузии в мое время я во всех отношениях был им совершенно доволен"*.
* (ЦГВИА, ф. 62, оп. 1, № 76, л. 28; № 15, л. 12об)
"Во всех отношениях..." - в устах Ермолова это значило, что Голицын ненавидел аракчеевщину и двор, был антикрепостником, умным и образованным человеком. Это нам надо очень запомнить, потому что Голицын представлял Лермонтова к золотому оружию за осеннюю экспедицию 1840 года. А в письме о гибели Лермонтова, присланном из Пятигорска в Москву, заверял, что "армия закавказская оплакивает потерю храброго своего офицера"*.
* (Некоторые биографы Лермонтова пытались взять под сомнение достоверность сведений Голицына о смертельной дуэли поэта, придавая преувеличенное значение размолвке лермонтовского кружка с В. С. Голицыным из-за устройства бала. На подробностях, сообщаемых Голицыным, и на взаимоотношениях с ним Лермонтова в Пятигорске остановлюсь в своем месте)
Таким образом, на Кавказе Лермонтов был среди ермоловцев. Вероятно, это тоже сыграло свою роль в запрещении царя откомандировывать поэта от Тенгинского полка: царь хотел изолировать Лермонтова от офицеров, зараженных "ермоловским" духом.
И. Л. Андроников уже показал, что встреча Лермонтова с А. П. Ермоловым (и связи с "ермоловцами",- добавим мы) нашла свое отражение в стихотворении "Спор". Образ полководца, нарисованного поэтом во главе победоносного войска на Кавказе, является портретом Ермолова. Можно добавить, что писатель А. Дюма, посетивший Кавказ уже в 1852 году, перевел "Спор" на французский язык и прямо поставил в стихах имя Ермолова. Он послал свой перевод самому полководцу, утверждая, что имя его до сих пор "как эхо" гремит по всему Кавказу. Перевод и письмо Дюма долгие годы хранил у себя один из бывших адъютантов Ермолова и только в 1871 году передал эти реликвии в редакцию "Русской старины", где они были напечатаны*. Заметим, что П. А. Ефремов имел намерение печатать "Спор" с приложением портрета Ермолова**.
* (Русская старина, 1871, т. III, кн. 12, с. 697-699)
** (ЦГАЛИ, ф. 191, оп. 1, № 532, л. 2)
Все это показывает, что Лермонтов вместе с товарищами по кружку "шестнадцати" влился в широкую среду оппозиционно настроенных офицеров, связывавших свои надежды на оздоровление армии с возвращением Ермолова. Этой идеей была продиктована "записка" Лобанова, поданная наследнику в 1844 году.
Но связи Лермонтова с "ермоловцами" не доказывают, что он целиком разделял их иллюзии и не относился критически к выдающейся, но противоречивой фигуре прославленного полководца.
В то время как имя Ермолова продолжало служить знаменем политической оппозиции для военной молодежи, сам он вел себя уклончиво. "Он мог быть в рядах оппозиции и даже казаться стоящим во главе ее", - подводил итог его деятельности П. А. Вяземский, - но "это было одно внешнее явление, которое многих обманывало"*. Совершенно в том же духе высказался один "умный человек", "умное мнение" которого М. А. Корф изложил в 1844 году в своем дневнике: "Ермолов в настоящую минуту в понятиях русских не человек, а - популяризированная идея. Когда в верхних слоях давно уже разочаровались на его счет или по крайней мере уверяют всех в этом разочаровании, частию может быть из тайной зависти, - масса все еще видит в нем великого человека и поклоняется под его именем какому-то полумифическому идеалу"**.
* (Вяземский П. А. Собр. соч., т. VIII. СПб., 1883, с. 171)
** (ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1817, ч. VII, л. 660)
Статс-секретарь развенчивает репутацию Ермолова с правительственной точки зрения. Но ведь в революционной среде тоже были разочарованы в Ермолове.
Декабрист Н. Р. Цебриков писал: "Ермолов мог предупредить арестование стольких лиц и казнь пяти мучеников; мог бы дать России Конституцию, взяв с Кавказа дивизию пехоты, две батареи артиллерии и две тысячи казаков, пойдя прямо на Петербург. Тотчас же он имел бы прекрасный корпус легкой кавалерии донцов с их артиллерией, столько, сколько бы он захотел. Донцы были недовольны правительством... Они до одного все восстали бы. А об 2-й армии и об Чугуевских казаках и говорить нечего. Она вся была готова, лишь бы девизом восстания было освобождение крестьян от помещиков, десятилетняя военная служба и чтобы казна шла на нужды народа, а не на пустую политику самодержца- деспота. Помещики-дворяне не смели бы пикнуть и все до одного присоединились бы к грозной армии, ведомой любимым полководцем. Но Ермолов... был всегда только интриган и никогда не был патриотом"*.
* (Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, т. 1. М" 1931, с. 263-264)
Обвинения Ермолова не могли остаться не замеченными Лермонтовым: в 1837 году он дружил с Александром Одоевским, переведенным на Кавказ прямо из сибирской ссылки (известно, что Грибоедов и Кюхельбекер, с которыми Одоевский был наиболее близок перед восстанием, разочаровались в Ермолове)*. В 1840 году Лермонтов, проведя три недели в Москве перед кавказской ссылкой, почти ежедневно встречался с Александром Ивановичем Тургеневым. В дневнике последнего есть много упоминаний о беседах его в московских кружках на кавказские темы; Тургенев, так же как и Лермонтов, был свидетелем общего паломничества к Ермолову. Может быть, он не мог тогда рассказать Лермонтову о том, что Пушкин в своем дневнике назвал Ермолова "великим шарлатаном", но об отношении поэта к поведению этого политического деятеля Тургенев знал слишком хорошо. "Ермолов, желая спасти себя, спас Грибоедова, узнав, предварил его за два часа", - передает в своем дневнике А. И. Тургенев слова Пушкина, сказанные ему в январе 1837 года**. Грибоедов успел перед обыском сжечь бумаги, компрометирующие не только его, но и Ермолова. Об этих истинных причинах великодушного поступка Ермолова Пушкин говорил с А. Тургеневым незадолго до своей смерти.
* (См.: Шостакович С. В. Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова. М., 1960, с. 75)
** (Из дневника А. И. Тургенева. - В кн.: Щ его лев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. Изд. 3. М. - Л., ГИЗ, 1928, с. 285)
Трудно допустить, чтобы, наблюдая в 1840 году возросшее значение Ермолова в Москве, Лермонтов и Тургенев не обменивались впечатлениями по этому поводу и не вспоминали пушкинский портрет Ермолова из "Путешествия в Арзрум"*.
* (Подробнее о двойственности Ермолова см. в книге Ильи Фейнберга "Незавершенные работы Пушкина" (М., Советский писатель, 1962, с. 375-379), где дан мастерской анализ литературного портрета Ермолова, нарисованного Пушкиным в "Путешествии в Арзрум")
В этой связи надо пересмотреть трактовку И. Андрониковым выделенной им фразы из очерка "Кавказец": "Бурка, прославленная Пушкиным, Марлинскцм и портретом Ермолова, не сходит с его плеча". И. Андроников видит здесь особый "острый политический смысл", заявляя: "Ермолов долгие годы находился в опале. Прославлять его было нельзя. Лермонтов вышел из положения, упомянув его бурку"*.
* (Андроников И. Лермонтов в Грузии в 1837 году. М., 1955, с. 201)
Прежде всего надо указать, что Лермонтов, как и замечает сам И. Андроников, уже не раз упоминал имя Ермолова в своих предыдущих произведениях. Так, в "Бэле" он показал, "чем был Ермолов в глазах рядового кавказца", в реплике Максима Максимыча: "Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче", - отвечал он, приосанившись". Заметим, что Лермонтов не только упомянул здесь имя и отчество опального генерала, но сам в подстрочном примечании разъяснил: "Ермолове". Это было беспрепятственно пропущено цензурой трижды при жизни Лермонтова: в 1839 году -в "Отечественных записках", в 1840 году - в нервом издании "Героя нашего времени" и в 1841 году - во втором издании романа. В "Валерике", напечатанном в 1843 году, при изображении разговора солдат "о старине" Лермонтов, не опасаясь цензуры, пишет: "...Как при Ермолове ходили // В Чечню, в Аварию, к горам..." Если в "Споре" имя Ермолова не названо, то, конечно, это было подсказано всем стилем художественной аллегории, а не только политическими соображениями.
Необоснованно поэтому и предположение исследователя о мотивах просьбы Лермонтова напечатать "Спор" в журнале "просто без всяких примечаний от издателя, с подписью его имени"*. И. Андроников подозревает, что Лермонтов опасался, как бы издатель "Москвитянина" М. П. Погодин не вздумал назвать в редакционном примечании имя Ермолова. Но распоряжение Лермонтова, несомненно, было вызвано совсем другими, более сложными, соображениями. Ведущий сотрудник "Отечественных записок" отдал свое стихотворение не в свои журнал, а в новый московский орган славянофильского толка. Стихотворение Лермонтова мало соответствовало, конечно, всему направлению "Отечественных записок". Недаром Белинский отзывался о "Споре" с некоторым недоумением. "Сколько роскоши в "Споре Казбека с Эльбрусом", хотя в целом мне и не нравится эта пьеса..."** - писал он В. П. Боткину. Очевидно, Лермонтов опасался, что его приношение в "Москвитянин" будет истолковано редактором этого журнала как свидетельство перехода поэта на славянофильские позиции.
* (Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1892, кн. 6, с. 203. Ср.: Андроников И. Лермонтов в Грузии в 1837 году, с. 203, 215)
** (Белинский В. Г. Поли. собр. соч., т. XII. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 57)
Это тем более вероятно, что Ю. Ф. Самарин, посылая Погодину "Спор", писал: "Радуюсь душевно и за него, и за вас, и за читателей "Москвитянина". А. С. Хомяков объяснял сотрудничество Лермонтова в московском журнале проще: он растолковал этот поступок поэта только как тактический прием литературной борьбы. "В "Москвитянине" был разбор Лермонтова Шевыревым и разбор не совсем приятный, по-моему, несколько несправедливый,- писал он Н. М. Языкову летом 1841 года.- Лермонтов отмстил очень благоразумно: дал в "Москвитянин" славную пьесу, спор Шата с Казбеком, стихи прекрасные"*. Лермонтов, зная, с каким острым интересом относился читатель к каждому его выступлению, проявил все-таки осторожность, чтобы не дать повод к слишком решительным толкованиям его выбора.
* (Хомяков А. С. Поли. собр. соч., т. VIII. М" 1900, с. 104)
И. Андроников видит глубокую внутреннюю связь между "Спором" и "Кавказцем", рассматривая оба произведения как "ермоловские". Но "Кавказец" стоит в одном ряду с "Валериком" и "Завещанием". Руссоистские размышления о ненужности войн выросли на почве реальной действительности - затянувшаяся война на Кавказе, противоречие между общегосударственным значением этой войны и ее жестокими формами. Показывая недоумение, растерянность и разочарование рядового офицера, Лермонтов вместе с тем развенчивает романтику Кавказа. В этом отношении очерк поэта стоит в одном ряду с последней его неоконченной прозой ("Штосс"), где ставится проблема романтизма в искусстве и в психике современного человека. Чтобы напомнить читателю эту общеизвестную тенденцию "Кавказца", приведем несколько выдержек:
"Он во сне совершает рыцарские подвиги - мечта, вздор..."
"Скучно!.."
"...жары изнурительны летом, а осенью слякоть и холода..."
"...он стал мрачен и молчалив..."
Конец "настоящего" кавказца печален: либо он "выставляет ноги на пенсион", то есть умышленно ищет легкой раны, чтобы получить "отставку с пенсионом", либо "слагает свои косточки", либо женится. В последнем случае он просится в гарнизон, где "жена предохраняет его от гибельной для русского человека привычки". Да и "штатский" кавказец, "послужив там несколько лет, возвращается в Россию с чином и красным носом".
И. Андроников правильно указывает, что обрисованный Лермонтовым типичный кавказец - "офицер ермоловской школы". Это определяется его возрастом: сорок- сорок пять лет. Он, так же как и Максим Максимыч, служил еще при Ермолове, в 20-х годах. Но Лермонтов тут же изображает слабую сторону культа этого военного вождя, в основе которого тоже лежала романтика. Она была вскормлена не только действительными качествами любимого полководца, но и эстетическими впечатлениями эпохи. В ряду факторов, влиявших на воображение военной молодежи, Лермонтов называет "поэтический", по выражению Пушкина, портрет Ермолова работы Доу. Пресловутая бурка несет в лермонтовском описании особые художественные функции. Она неудобна, по играет роль фетиша для кавказца по той же причине, по какой он "говорит кому угодно, что на Кавказе служба очень приятна", "хотя порой служба ему очень тяжела". По тем же мотивам он упрямо читает Марлинского и "говорит, что это очень хорошо", но "в экспедицию больше не напрашивается". Художественной деталью, вобравшей в себя это стойкое исповедание уже обманувшего символа веры, и является его подчеркнутая кавказская одежда: "Бурка его тога, он в нее драпируется; дождь льет за воротник, ветер ее раздувает - ничего! бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча".
От этого критического анализа далеко до прославления опального генерала, которое видится в очерке Лермонтова И. Андроникову как скрытый подтекст. Ермолов и "ермоловцы" взяты писателем как историческая данность, как явление, нуждающееся в критическом рассмотрении.
Весь в движении времени, Лермонтов сопоставляет разные эпохи и убеждается, что даже положительный тип скромного и храброго офицера "ермоловской" школы подвергся влиянию общего застоя в николаевскую эпоху. Большинство исследователей рассматривает "Кавказца" как развитие образа Максима Максимыча. Некоторые прямо утверждают, что в очерке Лермонтов выразил то, что осталось недосказанным в романе. Нам представляется это недоразумением: "Герой нашего времени"- художественно целое произведение, в котором сказано автором все, что нужно. "Кавказец" - очерк, то есть произведение жанра, преследующего совсем другие задачи. В "Бэле", "Максиме Максимыче" и "Фаталисте" Лермонтов- родоначальник психологического романа в России - ввел в образе Максима Максимыча нового героя, "история души" которого представляет не меньший интерес, чем психологические изгибы Печорина. В "Кавказце" этот образ "простого человека" описан как распространенный тип, который нужно рассматривать в его историческом развитии.
Начинается очерк с автопародии: "Настоящий кавказец человек удивительный, достойный всякого уважения и участия". Вспомним знаменитый своей неожиданностью финал "Бэлы": "Сознайтесь, однако ж, что Максим Максимыч человек достойный уважения? .. Если вы сознаетесь в этом, то я вполне буду вознагражден за свой, может быть, слишком длинный рассказ". Это было написано в 1838 году, после первой кавказской ссылки, когда Лермонтов впервые для себя открыл там новый для него положительный тип и ввел его в роман для контраста с интеллигентным Печориным. В очерке автор говорит об этом типе с иронией, пусть любовной, но все-таки с иронией. Прежде всего, самое определение "настоящий" кавказец представляет собою ходячее понятие, выражающее не авторское отношение к этому типу, а при пятое среди офицеров Отдельного кавказского корпуса. На это указывает курсив, которым в одном месте Лермонтов выделяет это слово, заменяющий в то время кавычки*.
* (Хотя письмо Николая I о "Герое нашего времени" написано по-французски, царь тоже, вероятно, имел в виду эпитет "настоящий", бытовавший в кавказской военной среде, когда писал: "il y a dans cette classe de bien plus veritable que ceux que Ton gratifie trop vul- gairement de cette epithete" (в этом разряде людей встречаются куда более настоящие, чем те, которых так неразборчиво награждают этим эпитетом))
Какова же отличительная черта "настоящего" кавказца? Вовсе не преклонение перед Ермоловым. "Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское" - вот его отличительный признак. Это не похвала в устах Лермонтова. Он видит в "кавказцах" черты некоей замкнутой касты, специфика которой непонятна "постороннему". Кто же этот непосвященный, к которому "кавказец", прирожденный русский, относится уже отчужденно? "Заезжий из России". В глазах Лермонтова это отдаление имело глубокие корни. Оно огорчало его не меньше, чем покорность крепостных крестьян жандармам, чем пассивное страдание народа, не доросшего еще до политического и гражданского сознания. Если "настоящий" кавказец достоин не только уважения, но и участия, то это потому, что он приобрел черты, заслуживающие сожаления. Охарактеризовав разочарование своего героя в романтике кавказской войны, Лермонтов переходит к главному: "Зато у него явилась новая страсть, и тут-то он делается настоящим кавказцем".
Какой же страстью надо быть зараженным, чтобы стать "настоящим"? Это страсть ко всему черкесскому, которая у него "доходит до невероятия": он "легонько маракует по-татарски... шашка - настоящая гурда, кинжал- старый базалай, пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка... лошадь - чистый Шаллох и весь костюм черкесский". Это желание раствориться в культуре другого народа Лермонтов считал болезненным явлением, так как русский офицер терял свое национальное лицо. Лермонтов относился к подобного рода тенденциям чрезвычайно враждебно. Вспомним, как остро он реагировал на будничное сообщение о пансионе при Петропавловской немецкой кирхе, в котором воспитывался мальчик Забелла:
"- И всему учат вас там по-немецки?
Всему, кроме русской словесности и русской истории.
Хорошо, что хоть это оставили"*.
* (Воспоминания, с. 277)
Этот беглый разговор происходил в последний приезд Лермонтова в Петербург, то есть именно тогда, когда он писал "Кавказца" по заказу редактора-издателя Башуцкого. Постоянно думая о русской самобытности, о национальном достоинстве и культуре своего народа, Лермонтов ставил знак равенства между "полуфранцузом", "полунемцем" и "полуазиатцем", потому что и те, и другие, и третьи были в его глазах "полурусскими". Недаром в "Кавказец" введено народное название иноземцев: "но увы, большею частью он слагает свои косточки в земле басурманской".
На то, что Лермонтова одинаково сердило подражание европейцам и подражание азиатам, указывает ироническая кличка, которой он наградил русское воинство на Кавказе. Ее вспоминали все современники, знавшие Лермонтова в последние недели его жизни. Но только один из них дал ей правильное объяснение. Слова его заслуживают доверия, так как он же, единственный, сообщил своему сыну, который выступил в печати в 80-х годах, что дуэль Лермонтова с Мартыновым происходила у Перкальской скалы, а не там, где поставлен был памятник поэту. Это известие документально подтвердилось только в наши дни*. Итак, Н. А. Кузминский писал: "Нужно сказать, что Лермонтов всегда посмеивался над теми из русских, которые старались подражать во всем кавказцам: брили себе головы, носили их костюмы, перенимали ухватки; последних в насмешку называл он l'armee russe"*****. Обманутые французской кличкой, мы всегда думали, что она относилась к гвардейским офицерам, которые кутили на минеральных водах. Но, сопоставляя ее с "Кавказцем", мы видим, что Кузминский не уклонился от истины.
* (М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. Пенза, 1960, с. 303)
** (Русская армия (фр))
*** (Кузминский Н. А. Дуэль Лермонтова с Мартыновым. - Петербургская газета, 1887, 13 июля, с. 4)
"Встретив его, вы тотчас отгадаете, что он настоящий, даже в Воронежской губернии он не снимает кинжала или шашки, как они его ни беспокоят", - пишет Лермонтов в петербургском очерке, а в Пятигорске он рисует нескончаемые вариации шаржированных портретов "горца с двумя кинжалами". Как будто сама судьба подготовила сосланному Лермонтову встречу в Пятигорске с живой пародией на "полурусское, полуазиатское существо",
чтобы дать исход его раздражению! Одно из дошедших до нас описаний странного костюма Мартынова, несомненно, восходит к карикатуре Лермонтова, в которой подчеркнут космополитический характер его одежды. "Он носил азиатский костюм, за поясом пистолет, через плечо на земле плеть, прическу а 1а мужик и французские бакенбарды с козлиным подбородком", - писал К. Любомирский о Мартынове*. Об отношении Лермонтова к Мартынову мы будем еще говорить в своем месте. Нам надо вернуться к "Кавказцу", имеющему первостепенное значение для понимания литературной и общественной позиции Лермонтова в последний период его жизни.
* (Бродскии Н. Л. Дуэль и смерть Лермонтова в откликах современников. - Литературный критик, 1939, № 10-11, с. 250)
В своем очерке Лермонтов не только с жалостью говорит о пагубной страсти "настоящего" кавказца, но и объясняет ее возникновение причинами общественно- политического характера. Прежде всего, скромный армейский офицер был "чужд утонченностей светской и городской жизни", поэтому его жажда разнообразия удовлетворялась тем, что он "полюбил жизнь простую и дикую". Он усвоил себе "восточные обычаи", наклонность к которым "берет над ним перевес". Он внешне проник в азиатскую культуру, узнал из истории кавказских народов то, что доступно его пониманию. А разве у русских нет своей истории? Разве у них не было своих героев, "грозных дел", своих богатырей, поэтических преданий и традиций? Николаевский офицер их не знает. Его не учат этому в кадетских корпусах. Его учат только маршировать и калечить солдат. У него есть врожденное благородное влечение к поэзии героических подвигов, но его не развивают, он ничего не смыслит в политике, он не слыхал про европейские революции, он не знает лучших русских людей, имена которых принадлежат истории. Словом, перечтем следующую тираду, и мы поймем, что ее главная мысль заключена в придаточном предложении, подчеркнутом нами: "Не зная истории России и европейской политики, он пристрастился к поэтическим преданиям народа воинственного. Он понял вполне нравы и обычаи горцев, узнал по именам их богатырей, запомнил родословные главных семейств" и т. д. Таким образом, стремление к необыкновенным и героическим делам, свойственное русскому национальному характеру, находило себе выход на стороне. Достойный и уважения и участия кавказский офицер не был в этом виноват. Виноваты были политический режим и система воспитания, проводимые Николаем I.
Нам известно, что, когда Лермонтов писал "Кавказца", он вынашивал новые замыслы. Лермонтов имел намерение основать свой журнал. Однако об этом нам рассказано настолько невнятно, что этим известием почти нельзя пользоваться. П. А. Висковатов очень неудачно расспрашивал об этом в 70-х годах А. А. Краевского. Но что мог сказать бывший редактор "Отечественных записок" об отходе от журнала самого видного его автора? Он выдвинул, если верить Висковатову, теорию о совершенно других устремлениях Лермонтова. "Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов, и для нас еще мало понятны. Но, поверь мне, - обращался он к Краевскому, - там на Востоке тайник богатых откровений"*.
* (Висковатов, с. 368)
О глубоком интересе Лермонтова к культуре восточных народов мы знаем по его творчеству и по его связям в 1837 году с представителями грузинской и азербайджанской интеллигенции*. Однако это не имело отношения к замышляемому им журналу. "Мы в своем журнале,- передавал Краевский слова Лермонтова, - не будем предлагать обществу ничего переводного, а свое собственное. Я берусь к каждой книжке доставлять что- либо оригинальное, не так, как Жуковский, который все кормит переводами, да еще не говорит, откуда берет их"**. Но Лермонтов и без того доставлял почти к каждой новой книге "Отечественных записок" свое "собственное" и "оригинальное"! Совершенно очевидно, что А. А. Краевский не хотел рассказывать, что побуждало Лермонтова так настойчиво говорить о намерениях заняться редакторско-издательской деятельностью. Висковатов что-то перепутал, контаминировал, по своему обыкновению, разные высказывания Лермонтова в одно, приурочил их к планам последнего года и в результате преподнес нам теорию нового журнала "евразийского" толка! Внимательное чтение очерка "Кавказец" показывает, что это не совпадает с позицией Лермонтова. В рассказе Висковатова мы встречаемся с весьма отдаленным отзвуком действительных мыслей и литературных планов поэта. Вернее будет предположить, что проект Лермонтова был направлен на расширение круга читателей. На эту мысль наводят сетования поэта в "Кавказце" на необразованность среднего армейского офицера
* (См.: Андроников И. Лермонтов в Грузии в 1837 году. М., Советский писатель, 1955).
** (См. примеч. 134)
Задуманная Лермонтовым историческая эпопея, вероятно, должна была служить и тому, чтобы восполнить пробел в развитии национального самосознания в широких демократических кругах.
О замысле исторической эпопеи до нас дошли два рассказа: один - излагающий по неизвестным источникам основные сюжетные линии произведения Лермонтова, другой - намекающий на его идейное направление. В первом, с неверной ссылкой на М. П. Глебова*, излагается план двух задуманных Лермонтовым романов: "одного из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкой в Вене, и другого - из кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране"**. Первый названный здесь роман посвящался, следовательно, теме Отечественной войны, второй - ясен. Но В. Г. Белинский дал более глубокую характеристику этого плана: "Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собою связь и некоторое единство, по примеру куперовской трилогии, начинающейся "Последним из Могикан", продолжающейся "Путеводителем в Пустыне" и "Пионерами" и оканчивающейся "Степями"..."*** Нельзя не согласиться с Б. М. Эйхенбаумом, который полагал, что "Белинский привел эти заглавия куперовских романов не только для того, чтобы напомнить их читателям, но и для того, чтобы дать им понять характер лермонтовского замысла". Исследователь раскрывает указанную Белинским связь так: "Последние из могикан" - это дворянство екатерининской эпохи; "Путеводитель по пустыне" и "Пионеры" - это роман о декабристах, в котором должны были появиться Ермолов и Грибоедов; "Степи" - это николаевская эпоха..."****
* ( Немецкий поэт и переводчик Фр. Боденштедт, писавший свой очерк о Лермонтове на основании рассказов М. П. Глебова, ничего не упоминает о замысле исторической эпопеи)
** (Мартьянов П. К. Дела и люди века, т. II. СПб., 1893, с. 93-94)
*** (Белинский В. Г. Полн собр. соч., т. V, 1954, с. 455)
**** (Эйхеибаум Б. М. Статьи о Лермонтове. М. - Л., Изд во АН СССР, 1961, с. 284-285)
Аналогия звучит особенно убедительно, если вспомнить, что, сопоставляя "настоящее время" с названием куперовского романа "Степи", критик употребил почти условный термин. Сравнение страны под деспотической властью Николая I со "степью" или "гладью" было настолько распространено, что мы встречаем эти понятия даже в высказываниях самых близких ко двору лиц. Так, фельдмаршал А. И. Барятинский сказал П. А. Висковатову, что при Николае I "смотрели на страну как на биллиард и не любили, когда что бы то ни было превышало однообразную гладь биллиардной поверхности"*, а М. А. Корф, отмечая по поводу смерти Сперанского в 1839 году "кризу безлюдья" в правительстве Николая I, размышлял о кандидатурах на пост председателя Комитета министров: "1. У государя по свойству его характера нет премьер-министра и быть не может, а следственно всякое предположение, идущее не от него, есть фикция. 2. В степи нет дубов, и следственно все поиски тщетны". Интересно, что при всей своей благонамеренности Корф понимал, что объяснение того тупика, в который завел Россию Николай I, - дело будущих историков. "Этот момент болезненной кризы в государстве возрастающем должен быть подмечен, - писал он. - История запишет нынешнюю минуту с настоящей ее точки, будет доискиваться причин и, может быть, их разгадает..."**
* (Бобров Е. А. Из истории русской литературы XVIII и XIX столетий. - Известия ОРЯС, т. XIV, кн. 1, 1909, с. 90-91)
** (ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1817, т. II, л. 62; № 1826, л. 13)
История разгадала причины общего застоя в крепостническом государстве отнюдь не в духе монархиста Корфа. Уже у Пушкина было намерение писать историю своего времени; Герцен, создатель жанра историко-бытовых мемуаров в "Былом и думах", в повести "Долг прежде всего", только по условиям царской цензуры не смог начертить образ своего современника в историческом развитии его идейных исканий; Лермонтов рвался сказать свое слово об общественном развитии России как исторический романист, как "будущий великий живописец русского быта", по слову Гоголя.
Мы не можем восстановить невозвратимое, никто не мог написать за Лермонтова большое полотно, которое он не успел даже начать, но ясно, что темы, над которыми Лермонтов размышлял всегда, исторические фигуры, значение которых он изучал, нашли бы себе там место. Тут были бы и полководцы, и солдаты, и декабристы, и крестьяне, и дворянство, и писатели, величайшими представителями которых были Пушкин и Грибоедов. Мы уже видели, что Лермонтов был чрезвычайно отзывчив на все события окружавшей его жизни, разделял интересы среды, в которую вовлекала его судьба, принимал активное участие в делах и думах своих современников. Но он был человек нового времени и, как будто сливаясь со своими товарищами в повседневной жизни, всегда находил новое слово, новый взгляд на вещи, который уводил общество вперед, к еще неизвестным горизонтам.
С этой точки зрения нужно проследить, чем разрешились искания остальных "шестнадцати".
7
В 1841 году Лобанов встретил в Темнр-Хан-Шуре Ксаверия Браницкого, который сказал ему о "меланхолическом Жерве": "У него такой вид, как будто он погибнет в первом же деле". Это предвидение оправдалось: Жерве был смертельно ранен за два месяца до дуэли Лермонтова. "Мы с Столыпиным часто задумываемся, глядя на те места, где прошлого лета... Но что старое вспоминать. Из нас уже двоих нет на белом свете. Жерве умер от раны после двухмесячной мучительной болезни. А Лермонтов, по крайней мере, без страданий..." -писал А. И. Васильчиков Ю. К. Арсеньеву 30 июля (1841 года)*.
* (Воспоминания, с. 363)
По свидетельству декабриста А. Беляева, служившего в кавказской армии, офицеры отзывались о Д. П. Фредериксе в таком же духе, как Браницкий о Жерве: "Человек отчаянной храбрости, который под самым сильным огнем неприятеля стоял все время при спешившихся и залегших казаках во весь свой высокий рост, не трогаясь с места. Один из наших черкесских офицеров рассказывал мне об этом с полным убеждением, что этот офицер нарочно ищет смерти*. Фредерике был убит в 1844 году.
* (Беляев А. Воспоминания о пережитом и перечувствованном. СПб., 1882, с. 456)
Александр Долгорукий через год после смерти Лермонтова погиб на дуэли в Царском Селе. Это был поединок, поразивший современников. За офицерским обеденным столом Долгорукий перешел границы, посмеиваясь над своим другом и однополчанином князем Яшвилем. После обеда он сам явился к нему, но не для того, чтобы попросить прощения, а чтобы заставить Яшвиля потребовать удовлетворения. Он буквально заставил его драться. Сам назначил тяжелые условия. Отказались от секундантов, чтобы никого не вовлекать в беду. На месте поединка Долгорукий настоял, чтобы Яшвиль, как обиженный, стрелял первым. Тот выстрелил, направив дуло пистолета в землю. Пуля отскочила от незамеченного им камня и рикошетом попала в Долгорукого*. Оплакивая потерю храброго, умного, талантливого офицера, современники находили, что дуэль эта походила на самоубийство.
* (См.: Любавский А. Д. Русские уголовные процессы, т. II. СПб., 1886, с. 39-43; Русский архив, 1900, т. III, с. 617)
Больше, чем остальные, вложил воли, знании и интереса в кавказскую военную службу Лобанов. Но все его усилия остались бесплодными. "Записка" к наследнику привела только к тому, что М. С. Воронцов впоследствии взял Лобанова к себе в адъютанты. Хотя он был членом комиссии "по обозрению магометанских народов Кавказской области", работы его по изучению языков и быта народов Дагестана оставались долгие годы неизвестными и ненапечатанными. В 1847 году он отправился, как мы помним, за границу, подумывая о том, чтобы перейти там на положение политического эмигранта. После Крымской войны, в Бессарабии, он начал писать свои воспоминания, в которых оплакивал бесплодно прожитую жизнь. В 1858 году он умер тридцати девяти лет от роду. Незадолго до его смерти с ним встретился писатель Салиас, наслышанный о нем от своих дядьев и теток - Сухово-Кобылиных. Воспоминания писателя показывают всю степень отчужденности и взаимного непонимания между поколением 50-60-х годов и некогда блестящими молодыми людьми 30-40-х.
"Звонок... принимают... появляется гость, - вспоминает Салиас. - Высокий и стройный, светло-белокурый, чрезвычайно красивый и изящный, светский лев, флигель-адъютант императора Николая Павловича, друг детства моего дяди, тетушек и матери, которого даже зовуг просто Мишель. При этом он герой, отличился на Кавказе в делах против горцев, о чем свидетельствует Георгиевский крест в петлице. Вдобавок вокруг него особый ореол (по крайней мере для меня), так как он был очень близким человеком знаменитой Рашели, от которой я в те времена буквально сходил с ума. Говорили, что он был одной из самых серьезных привязанностей гениальной воплотительницы Федры, Роксаны, Камилы и т. д. При своей бесспорной красоте и симпатичности блестящий петербургский флигель-адъютант и великосветский щеголь был немного простоват и далее частного, элегантно- банального "бабильяжа" (от глагола babiller*) ничего не мог и не умел. Имя гостя князь Лобанов-Ростовский"**.
* (Болтать (фр.))
** (Васильки. Лит.-худ. сборник. СПб., 1901, с. 426)
"Какая пестрая, неровная, везде и во всем незаконченная жизнь!" - задумался П. А. Валуев 15 апреля 1876 года, узнав, что "вчера внезапно умер гр. Андрей Шувалов. Он скончался у г-жи Н., с которою его отношения не прерывались с 50-х годов..." Прочтем эту частью уже приводившуюся запись до конца: "В 1834- 1835 гг. - юноша, из-за границы привезенный, родного языка не знавший, мягкий, податливый, без определенного колорита; в 1835-1836 - юнкер Нижегородского драгунского полка, бойкий, храбрый, с раною и Георгиевским крестом; в 1836-1838 - офицер того же полка, возвращающийся в петербургскую жизнь и прикомандированный к лейб-гвардии гусарскому полку. В 1838- 1839, 1840 -связь с Браницким, Столыпиным, Долгоруковым, Паскевичем, Лермонтовым и пр. (les seize*, к которым и я принадлежал). Затем в отставке, фашионабельная эпоха салона гр. Воронцовой и пр. Потом адъютантство у кн. Паскевича, венгерская кампания, кавалергардский мундир, опять отставка и, наконец, оппозиционная деятельность в дворянских, земских и городских собраниях с разнообразными эпизодами высылки на жительство в Париж, губернское предводительство в Петербурге и пр. и пр. Было время, я к нему ощущал искреннюю дружбу. Он отбил это чувство"**.
* (Шестнадцать (фр.))
** (Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел. В 2-х томах, т. II, 1865-1876. М" Изд-во АН СССР, 1961, с. 355)
Антипатия к либеральной деятельности оппозиционера-аристократа (заметим, кстати, что А. Шувалов был женат на дочери М. С. Воронцова) достаточно хорошо характеризует самого П. А. Валуева. У нас нет необходимости возвращаться к этой известной фигуре консервативного государственного деятеля, члена правительства Александра II.
Но интерес представляет судьба Ивана Гагарина, типичная для метаний русской дворянской интеллигенции. По поводу его обращения в католичество А. И. Герцен писал в 1843 году: "Все убеждены в тягости настоящего, но выход находит каждый молодец на свой образец. Партия католиков всех дальше в нелепости... Жаль откровенности, с которой бросаются в эти путы. Таков князь Гагарин..." Далее Герцен критикует дилетантизм Гагарина. "Понять можно,- пишет Герцен,- аристократ, вероятно, не получивший серьезного образования, ни сильного таланта, - между тем ум и горячее сердце, бог привел взглянуть на Францию, на Европу. Дома-то черно, страшно. Путь человечества неизвестен. Основные, краеугольные начала современного взгляда, автономия разума- история - terra incognita*. А тут случайная встреча с иезуитом... и удивленный человек предается вымершему принципу". В следующем году, узнав, что Гагарин намеревался "натурализоваться во Франции и потом, сделавшись священником, возвратиться в Россию" для латинской пропаганды, Герцен, отдавая должное мужеству и честности Гагарина, пишет: "Всякое убеждение, заставляющее человека пренебрегать всем временным, особенно русского, почтенно не само в себе, а в человеке. Au reste** все это невозможно: его на границе схватят или не пустят в Россию, или он без вести исчезнет. И за что идет он, понукается на мученичество - из-за идеи мертвой, погибшей? Русский, развивающийся до всеобщих интересов, готов схватиться за всякий вздор, чтобы заглушить только страшную пустоту"***.
* (Неизведанная область, букв.: неизвестная земля (лат.))
** (Впрочем (фр.))
*** (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. II, 1954, с. 257, 387-388)
О завершении пути Гагарина рассказывал в 1875 году Н. С. Лесков. Посетив его в Париже по просьбе И. С. Аксакова, писатель замечал: "Что он за иезуит и почему он иезуит, - он, я думаю, и сам не знает. Так себе, во время оно увлекся и "отличился", и я не боюсь ошибиться, что теперь он об этом жалеет и кается..." Лесков увидел в бывшем друге Лермонтова только несчастного, постаревшего человека, лишенного родины: "Всего лучше он был, - пишет он далее о Гагарине, - когда, уезжая в Пломбир, зашел ко мне проститься, просидел два часа, выпил стакан шабли за благоденствие России и... заплакал. Мы обнялись и много раз поцеловались: мне было до смерти его жалко... Он отяжелел, остарел, без зуб и без ног (от подагры), но имеет еще очень красивую наружность, напоминающую немножко так называемый "екатерининский" тип. Симпатии его к России, разумеется, состоят в невольной любви и невольном влечении к родине"*.
* (Лесков Н. С. Собр. соч. в 11-ти томах, т. XI. М., Гослитиздат, 1958, с. 418)
Духовную смерть "шестнадцати" изобразил И. С. Тургенев в романе "Отцы и дети". В письме к А. А. Фету он сообщал в 1862 году, что прототипом образа Павла Петровича Кирсанова ему послужил "тип Столыпиных, Росснегов и других русских ех-львов"*. Но в биографии Кирсанова-дяди он использовал главным образом факты и события жизни Монго. А. А. Столыпин умер в 1858 году во Флоренции, на руках у женщины, с которой он, по наблюдению П. А. Вяземского, "отдыхал от длительной, утомительной и поработительной связи" с графиней
* (Тургенев И. С. Собр. соч. в 12-ти томах, т. XII. М., Гослитиздат, 1958, с. 338)
А. К. Воронцовой-Дашковой*. Его постоянство и преданность "своей неверной" прославили его среди современников. И хотя в первые годы после смерти Лермонтова Столыпин много сделал для пропаганды его творчества во Франции - он прекрасно перевел на французский язык "Героя нашего времени" и напечатал его в 1843 году в парижской демократической газете, хотя он эпатировал царя, вернув пожалованный ему орден**, все его душевные силы ушли не на общественную или литературную деятельность, а на беспокойную любовь к странной и капризной женщине ("Понять невозможно ее, зато не любить невозможно"). Использование в образе Павла Петровича Кирсанова биографии Монго-Столыпина открывает нам и прототип образа княгини Р. в романе Тургенева. Хотя внешность ее отличается от типа красоты Воронцовой- Дашковой, но внутренний портрет перекликается с нарисованным Лермонтовым в стихотворении "Как мальчик кудрявый, резва..." и Н. Некрасовым в стихотворении "Княгиня".
* (Вяземский П. А. Собр. соч., т. X, 1886, с. 26. Ср.: Ашукина-Зенгер М. О воспоминаниях В. В. Боборыкина о Лермонтове.- Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 759)
** (Если это не анекдот)
Уходящий тип Кирсанова-дяди автор осмысливает исторически. Он раскрывает свой замысел в письме к К. К. Случевскому, где опять указывает прототипов образа Павла Петровича - Россета, Есакова, Столыпина-Монго. "Они лучшие из дворян: и именно потому и выбраны мною, чтобы доказать их несостоятельность",- писал он*. Свой приговор этому типу Тургенев высказал в сцене болезни Кирсанова: "Освещенная ярким дневным светом, его красивая исхудалая голова лежала на белой подушке, как голова мертвеца... Да он и был мертвец".
* (См. примеч. 149, с. 340)
Духовная гибель участников аристократического сообщества "шестнадцати" предстает перед нами в наглядных образах.
Огромное расстояние отделяет мощную одухотворенную личность Лермонтова от его товарищей по этому кружку.
Мы увидели на конкретном анализе его творчества, в какую сторону он эволюционировал, как он все дальше и дальше отклонялся от узких кастовых настроений отдельных групп и выходил на широкую дорогу общенародных дум и чаяний.
Нам остается только сравнить политическое положение нескольких членов "шестнадцати" с подневольной судьбой Лермонтова в последний год его жизни.
Иван Гагарин уже в конце 1840 года писал Ю. Самарину из Парижа, что он намерен вернуться в Москву через год. Он действительно был еще несколько раз в России до того момента, когда окончательно порвал с отчизной, перейдя во французское подданство и вступив в орден иезуитов.
Фредерике и А. Долгорукий были награждены за те дела, в которых участвовал Лермонтов, не получивший никакой награды. Они беспрепятственно приезжали в Петербург до самой своей смерти. Переведенный в Тенгинский пехотный полк, поэт не имел никакой надежды ни на повышение чина, ни на военное отличие, ни на отставку.
Сотрудники Гана, как и предполагалось при откомандировании их на Кавказ, через год вернулись в Петербург, продолжая числиться во II Отделении "собственной" канцелярии царя. Это - А. Васильчиков и Сергей Долгорукий. Борис Голицын пользовался исключительным благоволением к нему Николая I, как сын обласканного сверх меры московского генерал-губернатора.
Андрей Шувалов в 1842 году уехал за границу в отпуск, а затем совсем вышел в отставку.
А. А. Столыпин тоже уехал в 1843 году за границу и вышел в отставку.
Постоянным преследованиям Николая I подвергался, как мы уже знаем, Сергей Трубецкой, но на это у царя- деспота были личные причины.
Ни в какое сравнение не идут с этим проявлением царского каприза жестокие репрессии против Лермонтова. Поэт был переведен в Тенгинский пехотный полк, который вместе с Навагинским пехотным нес в Отдельном кавказском корпусе самые большие тяготы походной и боевой жизни. В эти полки ссылались обыкновенно наиболее серьезно провинившиеся офицеры и "государственные преступники" по делу 14 декабря. Завершением жестокого умысла Николая I явилось последнее "высочайшее" запрещение Лермонтову отлучаться от своего полка и посмертные бранные отзывы царя о поэте.
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://m-y-lermontov.ru/ "M-Y-Lermontov.ru: Михаил Юрьевич Лермонтов"