
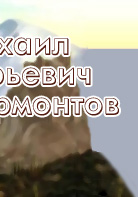
Библиотека
Энциклопедия
Ссылки
О проекте

Лермонтов и П. А. Вяземский
1
При отличной способности быстро и точно реагировать на толчки внешней жизни, Лермонтов всегда был погружен в свою думу и поэтические видения. Находясь под арестом, он создал такие шедевры лирики, как "Воздушный корабль" и "Журналист, Читатель и Писатель". Калейдоскоп пестрых событий барантовской истории - "море бед", как по-гамлетовски назвал это Лермонтов в стихах к Соломирской, - только возбуждал вдохновение поэта.
"Герой нашего времени" уже печатался в типографии. Окончание романа знаменовало собой завершение двухлетнего периода жизни Лермонтова в Петербурге. "Большой свет ему надоел, давит его, тем более, что он любит его не для него самого, а для женщин, для интриг...- писал Белинский. - Ну, от света еще можно бы оторваться, а от женщин - другое дело. Так он и рад, что этот случай отрывает его от Питера"*. За это время Лермонтов успел создать себе репутацию циника, породившую столько легенд о его невероятных похождениях. Передавая и приукрашивая их, современники забывали, что поэт на их глазах создавал своего Печорина и неустанно совершал психологические эксперименты. У него было множество знакомых, он всегда был окружен людьми, но "во всех сношениях с ними держал себя скорее наблюдателем, чем действующим лицом, за что многие его считали человеком без сердца" (Дружинин)**.
* (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XI. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 510)
** (Воспоминания, с. 379)
"Этот человек никогда не слушает то, что вы ему говорите,- он вас самих слушает и наблюдает", - писал Ю. Самарин, понимая, что источником этой проницательности был психический склад поэта. "Это чрезвычайно артистическая натура, неуловимая и не поддающаяся никакому внешнему влиянию, благодаря своей наблюдательности и значительной дозе индифферентизма. Вы еще не успели с ним заговорить, а он вас уже насквозь раскусил; он все замечает..."*
* (Там же, с. 299, 298 (с разночтениями в переводе с фр.))
При уме и проницательности Лермонтов обладал, однако, большой долей наивности. "По годам и по многому другому, он был порядочным ребенком", - замечал Дружинин. "Характером он был моложе, чем следовало по летам", - писал Н. М. Смирнов, человек из пушкинского окружения*. "Глупым ребячеством" называл П. А. Вяземский поведение Лермонтова в истории с Барантами. С житейской точки зрения оно действительно безумно. Оглянемся еще раз на события этих бурных двух лет.
* (Из памятных заметок Н. М. Смирнова. - Русский архив, 1882, № 2, с. 257-258)
Многие разделяли негодование Лермонтова по поводу разнузданных привычек царской семьи, но кто мог бы решиться на дерзкие выходки поэта?
Приглашение на новогодний бал к Барантам... Это был шаг, предпринятый французским послом для сближения с русским обществом в острый момент дипломатических трений. Не далее как 27 марта 1840 года Барант любезно писал П. А. Вяземскому о "подлинной колонии французского языка", какой, по мнению просвещенных европейцев, являлся Петербург, и видел в этом залог "нерушимой франко-русской дружбы". "Если она не всегда проявляется в политике, - добавлял посол,- то никогда не изгладится в области культуры"*. Наслышанный о восходящей звезде русской поэзии, Барапт пригласил Лермонтова. Какими затруднениями сопровождалась эта дружественная акция, мы уже знаем, из письма А. Тургенева. Знал обо всем и Лермонтов. Тем не менее поэт не нашел ничего лучшего, как напечатать стихотворение с датой "1-е января", совпадающей с днем торжественного приема в посольстве. С точки зрения здравого смысла - промах. По большому счету - бессмертное выступление гениального поэта.
* (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1397, л. I. Перевод с фр)
Эпиграмму на высших сановников поэт небрежно набрасывает мелом на зеленом сукне*.
* (См. с. 252)
Лермонтов не сторонился "житейского волнения", он жил в другом измерении. Его как будто оставляла проницательность, когда он сталкивался с конкретными действиями правительства, направленными против него. Конечно, он не знал о тайных интригах Бенкендорфа, но чего можно было ждать от царя, когда дело его так осложнилось? Между тем перевод на Кавказ оказался для Лермонтова неожиданностью. "Суд над ним кончен и пошел на конфирмацию к царю, - писал Белинский со слов Краевского. - Вероятно, переведут молодца в армию. В таком случае хочет проситься на Кавказ, где приготовляется какая-то важная экспедиция против черкес. Эта русская разудалая голова так и рвется на нож"*. А в это время "высочайший" приказ о переводе Лермонтова в Тенгинский пехотный полк был уже подписан.
* (См., примеч. 1)
Несоответствие между житейским легкомыслием и глубоким умом поэта поражало современников. О Лермонтове говорили как о "психической загадке" (М. Н. Лонгинов), "избалованном аристократическом ребенке" (Герцен), вспоминали его "неизвинительные капризы" (А. В. Дружинин). Но большое явление нельзя рассматривать на слишком близком расстоянии. Демократический читатель и Белинский лучше понимали Лермонтова, чем те, кто сталкивался с ним в повседневной жизни. Это сказалось на трудных и сложных сношениях Лермонтова с людьми из круга Пушкина, и главным образом с П. А. Вяземским.
Всем известен оправдательный поход, предпринятый В. А. Жуковским и П. А. Вяземским после смерти Пушкина. Письмо Жуковского к отцу поэта было напечатано в "Современнике". Вяземский написал письмо великому князю Михаилу Павловичу, имевшее целью оградить имя покойного поэта и его живых друзей от обвинений полиции в устройстве политического заговора.
Пожар Зимнего дворца 17 декабря 1837 года послужил Вяземскому поводом для исторического очерка, написанного по-французски и напечатанного в одном из парижских журналов. В апреле 1838 года этот очерк, переведенный на русский язык, появился в "Московских ведомостях"*.
* (Московские ведомости, 1838, 20 апреля, № 32, с. 257-258)
Автор отмечал историческое значение царской резиденции, похвалил поступки Александра I во время наводнения и закончил славословиями по поводу новогодних встреч Николая I с народом на площади перед дворцом.
Вернувшись летом 1839 года в Петербург, Вяземский продолжал ненавистную ему службу в департаменте внешней торговли министерства финансов, но стал получать знаки одобрения от властей и консервативного крыла общества.
В августе 1839 года он был избран в члены Российской Академии, возглавлявшейся А. С. Шишковым. В сентябре Вяземский получил чин действительного статского советника. Поэт тяжело переживал свое новое положение, приводившее к трагической внутренней раздвоенности. "Уж теперь лакеи не говорят про меня: карета князя Вяземского, а генерала Вяземского", - с грустной иронией писал он жене. Раздраженно говорит он об успехе в высшей чиновничьей среде его очерка о Зимнем дворце и стихотворения "Самовар", проникнутого духом ограниченного местного патриотизма. В беседах и записках он продолжал остро и резко критиковать порядки и обычаи правления Николая I. Вместе с тем Вяземский все еще чувствовал себя в положении опального и проявлял чрезвычайную осторожность, опасаясь привлекать к себе общественное внимание. "На беду мою не могу показаться на Невский проспект,- писал он в октябре 1839 года, - так все и кидаются поздравить меня с чином. Революция, да и только! Шляпами махают, кричат. Боюсь, чтобы полиция не вмешалась и не подумала, что это я народ подкупаю. А ты знаешь мои привычки на этот счет. Надинька также знает. Эти восторги только что агасируют мои нервы".
Семейное несчастье - смертельная болезнь дочери Надежды - заставило Вяземского сделать еще одну уступку: примириться со злейшими врагами Пушкина, с которыми он демонстративно порвал в 1837 году.
19 декабря 1839 года Вяземский подробно пишет об этом в Баден:
"В последнее воскресение у Росси* и в полном смысле последнее (ибо она за множеством охотников и посетителей должна закрыть свой салон) вдруг через всю залу ломится ко мне графиня Нессельроде, в виде какой-то командорской статуи, и спрашивает меня об вас. Разумеется, я отвечал ей очень учтиво и благодарно, и вот поневоле теперь должно будет мне кланяться с нею. Видишь ты, Надинька, чего ты мне стоишь? Ты расстроила весь мой политический характер и сбиваешь меня с моей политической позиции в Петербурге. Не кланяться графине Пупковой и не вставать с места, когда она проходит, что-нибудь да значило здесь. А теперь я втерт в толпу. Я превосходительный член русской академии и знаком с племянницею, чем же после этого я не такая же скотина, как и все православные?"**
* ( Известная немецкая певица Генриетта Зонтаг. вышедшая замуж за сардинского посланника В.Петербурге графа Росси. В 183Э г. выступала в любительских концертах перед знатной публикой)
** (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 67об., 73об" 111об. - 112. "Племянница" и "племянник" - прозвища М. Д. и К. В. Нессельроде в переписке П. А. Вяземского. Вероятно, намек на родство вице-канцлера с гр. Ф. К. Нессельроде, адъютантом цесаревича Константина Павловича, с 1830 г. начальником V округа корпуса жандармов. Вяземский сталкивался с ним в годы своей службы в Варшаве (см. в кн.: Вяземский П. А. Записные книжки (1813- 1848). М" Изд-во АН СССР, 1963, с. 487))
Чтобы оценить весь горький смысл этого письма, нужно вспомнить не только козни графини Нессельроде в последний год жизни Пушкина, но и события 1828 года, когда Вяземского, как и Пушкина, не пустили в армию во время турецкой войны. Одну из главных ролей в этой кампании против Пушкина и "говорунов", как называл в ту пору Николай I Вяземского и А. Тургенева, играл граф К. В. Нессельроде. "Я имел случай убедиться, что наш возлюбленный племянник, вице-канцлер и действительная свинья, Нессельроде, был в этом деле один из противных ветров", - писал П. А. Вяземский 21-26 апреля 1828 года*.
* (Боричевский И. Пушкин и Лермонтов в борьбе с придворной аристократией. - Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 340.
"Племянник" - см. предыдущее примеч)
Никто лучше самого Вяземского не понимал всего трагизма происходившей с ним метаморфозы.
Графиня Нессельроде, сделав первый шаг к примирению с пушкинскими друзьями, продолжила эту линию: в декабре 1840 года она оказала В. Ф. Вяземской много услуг в хлопотах о погребении Н. Вяземской в Бадене.
Общение с "графиней Пупковой" повлекло за собой также примирение с другим врагом Пушкина - с княгиней Е. П. Белосельской-Белозерской. Эту холодную, хищную и развратную красавицу Пушкин считал соучастницей в авторстве и распространении гнусного "диплома рогоносцев". Она была падчерицей А. X. Бенкендорфа и женой двадцатипятилетнего князя Эспера Белосельского-Белозерского. Вяземский порвал с нею знакомство после смерти Пушкина, но 16 марта 1840 года сообщает жене: "Прежде заезжал я на часок к к(нягине) Зинаиде Белосельской, которая принимает у младших Белосельских, к коим между прочим я не езжу. Но с молодою княгиней с нынешней зимы начал опять кланяться"*.
* (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 155. О Е. П. Белосельской-Белозерской см.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х томах, т. 2. М., 1974, с. 323, 497)
Приведенные строки Вяземского многое разъясняют в поведении Лермонтова. Специфические условия, в которых "не кланяться графине Пупковой" уже представляло собой политическую позицию, дают резкое освещение всей повадке Лермонтова в великосветских салонах.
Обратимся к описанию И. С. Тургенева, наблюдавшего Лермонтова в конце 1839 года в доме княгини Шаховской: "На Лермонтове был мундир лейб-гвардии гусарского полка; он не снял ни сабли, ни перчаток и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню" Э. К. Мусину-Пушкину*.
* (Воспоминания, с. 298)
Поза поэта воспринимается как олицетворенный вызов неписаным законам великосветского общества, где каждый молодой человек обучался "тактике гостиных", с математической точностью указывающей, "где встать, где сесть, где поклониться"*(Соллогуб).
* (Соллогуб В. А. Три повести. М., Советская Россия, 1978, с. 67)
Надо заметить, что княгиня С. А. Шаховская была невесткой Э. К. Мусиной-Пушкиной. С обеими Вяземский был в дружбе.
Внимание, оказываемое в этих домах Лермонтову, очевидно, раздражало поэта старшего поколения. Добавим к этому, что сын Вяземского Павел, повеса и бездельник, находился под сильным личным влиянием Лермонтова. Поэт поражал воображение юноши рассказами о своих выдуманных и невыдуманных похождениях. Все это подготовило критическое и отчужденное отношение Вяземского-отца к Лермонтову, которого он встречал в домашней обстановке гораздо чаще, чем упоминает об этом в своих письмах.
Особенно недоволен был Вяземский историей с Барантами. Он дорожил этим литературным и политическим салоном, оставшимся единственным каналом для русско-европейских культурных связей после смерти Е. М. Хитрово и отъезда из Петербурга Фикельмонов.
Первая реакция Вяземского на известие о дуэли Лермонтова с Барантом была отрицательной. "Петербургское и довольно нахальное волокитство" Лермонтова навело его на исторические воспоминания. Он сравнивал два поколения и, разумеется, отдавал преимущество "львам" 20-х годов. "В нынешней молодежи,- пишет Вяземский 14 марта 1840 года, - удивительно много ребячества, но не простого сердечного, а только глупого и необразованного, то есть не воспитанного ни домашним, ни общежитейским воспитанием. Беда, что вовсе нет старших, то есть d'autorite*, как, например, в старину Киселев, Орловы и другие. Теперь везде поголовная мелюзга. Нет ареопага, все une democratic de mediocrite**. Странно, что народ мелеет в России. И везде, конечно, миновалась пора великих личностей, de grande individualite, но в других местах причина тому, что свет просвещения ровнее разливается на массы, что число дей ствуюших, принимающих участие в общем беге, быстро умножается, по у нас этой причины нет. Разумеется, говорю не в политическом отношении, а только в социальном".
* (Нет влияния (фр.))
** (Демократия посредственностей (фр))
Дальнейшее развитие событий, сопровождавшееся всеобщим сочувствием к Лермонтову ("Из него делают героя", - удивленно писал Вяземский), не поколебало этого скептицизма. "Лермонтова дело пошло хуже,- сообщает он 2 апреля 1840 года, - под арестом он имел еще свидание и экспликацию с молодым Барантом. Все это глупое ребячество, а Лермонтов, верно, один из героев Павлуши. Дух независимости, претензия на независимость, на оригинальность, и конец всего, что все делает навыворот. Тут много посторонних людей пострадает, во-первых, свидетели и более всех дежурный офицер, который допустил свидание. Между тем, что правда, то правда, Лермонтов в заключении своем написал прекрасные стихи"*.
* (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 153об" 154, 163об)
В этих рассуждениях сказалась вся разница между общественной позицией Вяземского и Лермонтова. Не менее сложными были литературные взаимоотношения двух поэтов разных поколений.
2
Стихи Лермонтова, которые Вяземский назвал "прекрасными",- это "Журналист, Читатель и Писатель". 20 марта Соллогуб навестил Лермонтова на Арсенальной гауптвахте и принес оттуда копию этого нового стихотворения. 12 апреля оно было напечатано в "Отечественных записках".
В советское время это стихотворение получило новые толкования. С одной стороны, стремились разъяснить авторскую исповедь, выраженную в заключительном пространном монологе Писателя. С другой - пытались раскрыть злободневный смысл первой части стихотворения, где Лермонтов производит смотр реальных сил современной литературы и журналистики. Ясно, что без полного понимания первой части нельзя правильно истолковать вторую. Между тем в ней остается еще много нераскрытого.
До исследования Н. И. Мордовченко под Журналистом, явившимся к Писателю, обычно подразумевался Белинский. Ученый доказал, что в образе Журналиста выведен Н. А. Полевой - в прошлом редактор-издатель боевого "Московского телеграфа", а в пору активности Лермонтова критик реакционного "Сына отечества"*.
* (Мордовченко Н. И. Белинский и русская литература его времени. М. - Л., Гослитиздат, 1950, с. 95-103)
Новой удачей в поисках конкретных источников "Журналиста, Читателя и Писателя" явилось указание Э. Э. Найдича на источник французского эпиграфа к стихотворению: "Поэты похожи на медведей, сытых тем, что сосут свою лапу". Лермонтов пометил этот эпиграф как "неизданное", но на самом деле это вольный перевод афоризма Гете из его "Изречений в стихах"*.
* (Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 4-х томах, т. 1. М., Гослитиздат, 1957, с. 352)
Более глубокую связь стихотворения Лермонтова с творчеством Гете вскрывает В. Э. Вацуро, указывая на "Пролог в театре" из "Фауста" как на его "жанровый первоисточник", отразившийся на проблематике всего стихотворения (наряду с пушкинским "Разговором книгопродавца с поэтом"). При этом исследователь не проходит мимо эпиграфа, скрепляющего эту связь*. Таким образом в споре между Читателем, Журналистом и Писателем участвовал еще и "великий олимпиец", в имени которого сосредоточена целая философия творчества.
* (Лермонтовская энциклопедия. М" 1981, с. 170-171)
Но кто же в таком случае Читатель? Существует мнение, что в его словах выражены собственные требования Лермонтова к современной поэзии:
Когда же на Руси бесплодной, Расставшись с ложной мишурой, Мысль обретет язык простой И страсти голос благородный?
Эти строки постоянно цитировал с большим сочувствием Белинский. С его легкой руки стали крылатыми фразами и другие реплики Читателя. Прогрессивное их значение породило даже гипотезу, что в этом стихотворении Лермонтов выступил под псевдонимом Читателя, а в образе Писателя предоставил слово другому поэту - А. С. Хомякову*. Однако гипотеза эта не нашла себе подтверждения ни в дальнейших трудах ее автора, ни у других исследователей. Как видим, образ Читателя причинил немало затруднений знатокам творчества Лермонтова.
* (Эйхенбаум Б. М. Статьи о Лермонтове. М. - Л., Изд-во АН СССР, 1961, с. 105-106)
В последних изданиях сочинений поэта все комментаторы остановились на мысли, что "авторский голос" Лермонтова слышен и в словах Читателя, и в словах Писателя. Однако это вызывает возражения.
Одна из крылатых фраз Читателя, тоже часто повторявшаяся Белинским в его статьях, относится к внешнему оформлению журналов:
...Во-первых, серая бумага, Она, быть может, и чиста; Да как-то страшно без перчаток...
Тут заключена скрытая цитата, не замеченная исследователями. Лермонтов перефразировал давнишний каламбур другого поэта. В 1830 году в альманахе "Денница" был напечатан "Отрывок из письма к А. И. Готовцевой" П. А. Вяземского. Там читаем:
"Кто-то сказал, что с некоторого времени журналы наши так грязны, что их не иначе можно брать в руки, как в перчатках"*.
* (Ср.: Вяземский П. А. Записные книжки (1813-1848). М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 88)
Афоризм этот принадлежал самому Вяземскому - он повторяет его в одной из своих "Записных книжек" от первого лица.
Не изображен ли в образе Читателя Вяземский? Это тем более вероятно, что главным оппонентом его после напечатания "Отрывка письма к Готовцевой" в 1830 году был не кто иной, как Н. А. Полевой, то есть Журналист стихотворения Лермонтова.
Попробуем распространить параллель с Вяземским на все реплики Читателя. Положительная часть его требований к литературе характеризуется такими речениями: "изрядный слог", "живое, свежее творенье" и "чувств и мыслей полнота". Такой отбор слов типичен для печатных выступлений П. А. Вяземского. В 1824 году в знаменитом предисловии к "Бахчисарайскому фонтану" он высказывает свои соображения о необходимых условиях развития сюжета: "Слог придает ему крылья или гирями замедляет ход его". Касаясь далее "Бахчисарайского фонтана", он продолжает эту мысль: "В творении Пушкина участие читателя поддерживается с начала до конца. До этой тайны иначе достигнуть нельзя, как заманчивостью слога"*. В 1827 году, восхищаясь "богатством, роскошью воображения, сильным и живым чувством поэтическим" Адама Мицкевича, Вяземский подчеркивает, что оно везде у него "выдается и в верном, свежем выражении переливается в душу читателя"**. В 1830 году он пишет в том же письме к Готозцевой: "Передавайте стихам своим как можно вернее и полнее впечатления, чувства и мысли свои. Тогда стихи ваши будут иметь жизнь, образ, теплоту, свежесть".
* (Вяземский П. А. Соч. В 2-х томах, т. II. М., Художественная литература, с. 99)
** (Вяземский П. А. Соч., т. II, с. 128)
Критические замечания Вяземского тоже легко сопоставимы со словами Читателя: "Литература наша, то есть журнальная... не есть выражение общества, а разве некоторых темных закоулков его" (из письма к Готовцевой, в "Деннице" 1830 года). Эта мысль выражена Лермонтовым в знаменитых строках:
С кого они портреты пишут? Где разговоры эти слышут? А если и случалось им, Так мы их слышать не хотим...
Сравнение образа Читателя с Вяземским может объяснить и некую несообразность. Если принять Читателя за рядового подписчика журнала, остается необъяснимой его придирчивая профессиональная критика современной журнальной поэзии. Совсем другим будет наше восприятие, если мы прочтем следующие строки, соотнеся их с литературным вкусом поэта Вяземского:
Стихи - такая пустота; Слова без смысла, чувства нету, Натянут каждый оборот; Притом - сказать ли по секрету? И в рифмах часто недочет.
В письме к Готовцевой Вяземский хвалит "педантов в рифмах". "Люблю эту звучную игрушку среднего века",- восклицает он. "Не пренебрегайте также верностью рифмы, - советует он поэтессе. - Уважайте истину поэзии, но соблюдайте свято истину и стихотворства... Чем рифма кажется маловажнее, тем рачительнее должно стараться о ней".
Отождествляя Читателя с Вяземским, мы можем найти удовлетворительное объяснение и снисходительно-поучающему тону, с каким этот персонаж стихотворения Лермонтова обращается к журнальным критикам:
В чернилах ваших, господа, И желчи едкой даже нету - А просто грязная вода.
Эта строфа, не отличающаяся по духу от оценок Вяземским журналов 30-го года, переносит нас, как показал Н. И. Мордовченко, в период, современный Лермонтову: "Мелкие нападки на шрифт, виньетки, опечатки" отражают беспринципную критику Полевым изданий Краевского 1839-1840 годов.
Таким образом, можно полагать, что в стихотворении "Журналист, Читатель и Писатель" Лермонтов вывел двух оставшихся в живых противников знаменитой полемики 30-го года - "литературного аристократа" Вяземского и "демократа" Полевого. Собственно говоря, на это намекал еще П. А. Висковатов. Но на его слова не обращали внимания, так как они ничем не были мотивированы. Между тем он очень уверенно характеризовал обоих этих персонажей дополнительными чертами, которых нет в стихотворении. Вероятно, на прототипов Журналиста и Читателя ему указал А. А. Краевский или В. А. Соллогуб, на сообщения которых биограф Лермонтова постоянно ссылался. Из характеристики Журналиста было уже ясно, что Висковатов имеет в виду отнюдь не Белинского:
"Этому торгашу литературы, - писал он, - подделывающемуся под общий тон, желающему угодить всякому, лишь бы было ему выгодно, и потому смотрящему на талант как на дойную корову, противопоставлен Читатель, безукоризненный человек хорошего высшего общественного тона, который неудовольствие свое на литературу прежде всего выражает тем, что
...Нужна отвага, Чтобы открыть... хоть ваш журнал (Он мне уж руки обломал) ... ................................. Да как-то страшно без перчаток...
Впрочем, - продолжает П. Висковатов, - дальнейшие его замечания доказывают образованность и "хорошее воспитание", словом, лицо из высшего круга, в свою очередь глядящее на литературу, не скажем, как на приятную забаву, нет, глядящее на нее серьезнее, как на полезную пищу для тонкого, воспитанием и вереницей именитых предков дрессированного, ума"*.
* (Висковатов, с. 331)
Упоминание о принадлежности Читателя к высшему кругу, намек на его родовитое происхождение в сочетании с указанием на тонкий литературный вкус и брезгливое пренебрежение к журналистике позволяют узнать в этом описании князя П. А. Вяземского.
Образ Вяземского Лермонтов рисует в развитии. Призыв "романтиков" 20-х годов к созданию полнокровной литературы передан Лермонтовым в уже приведенной нами строфе: "Когда же на Руси бесплодной,// Расставшись с ложной мишурой..." и т. д. Вероятно, поэтому Вяземский и нашел стихотворение Лермонтова "прекрасным". Написанное в традиционной форме литературного "разговора", оно напомнило ему лучшую пору его жизни, когда он был соратником Пушкина, когда его "Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны" служил их общим манифестом при выходе "Бахчисарайского фонтана". "Что такое народность...- писал там Вяземский. - Она не в правилах, но в чувствах. Отпечаток народности, местности - вот что составляет, может быть, главное, существеннейшее достоинство древних... нет сомнения, что Гомер, Гораций, Эсхил имеют гораздо более сродства и соотношений с главами романтической школы, чем с своими холодными, рабскими последователями".
Борьба "романтиков" за освобождение литературы от пут устаревшего классицизма, так блистательно возглавленная Пушкиным, конечно, была дорога Лермонтову. И он никогда не забывал, что в числе ее главных участников был Вяземский.
В своем стихотворении Лермонтов касается далее второго этапа борьбы пушкинской группы - полемики 1829-1831 годов. Эту страницу литературных боев Пушкина с Булгариным он учитывал, когда полемизировал с "Северной пчелой" в "Тамбовской казначейше". Зная, что в образе Журналиста изображен второй противник "Литературной газеты", то есть Н. А. Полевой, понимаешь ассоциацию, по которой Лермонтов обратился к "Деннице" 1830 года для характеристики Читателя. Он и Журналиста рисует ретроспективно. Когда-то Полевой имел заслуги в воспитании демократического читателя, но после закрытия "Московского телеграфа" опустился, стал продажным журналистом и критиком-поденщиком. Характеризуя Полевого, Лермонтов ввел выражение, бывшее ходовым в кругу Вяземских и Карамзиных. Так, вспоминая в августе 1840 года "старые прибаутки", Вяземский писал: "Войдите в мое положение! - голос значительно возвысить на слоге же. Эта фраза с этим ударением была в большой моде прошлым летом у Карамзиных и пущена в ход, кажется, Лермонтовым"*, Все это выражено в строфе:
* (Герштейн Э. "Мятлевские" стихотворения Лермонтова. - Вопросы литературы, 1959, № 7. П. А. Плетнев, однако, утверждал, что эта фраза восходит еще к Пушкину. "Но войди в мое положение (как любил в таких случаях говаривать покойный Пушкин)", - писал он Я. К. Гроту 5 мая 1845 г. (см.: Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х томах, т. 2. М., Художественная литература, 1974, с. 256))
................................ Войдите в наше положенье! Читает нас и низший круг: Нагая резкость выраженья Не всякий оскорбляет слух; Приличье, вкус - все так условно; А деньги все ведь платят ровно!..
Но если для обрисовки нисходящего пути Полевого достаточно было одной строфы, то с характеристикой эволюции Вяземского дело обстояло сложнее. И тут мы подошли к самому важному: почему Лермонтов называет его Читателем?
Обратимся к последней реплике этого персонажа:
Зато какое наслажденье, Как отдыхает ум и грудь, Коль попадется как-нибудь Живое, свежее творенье! Вот, например, приятель мой: Владеет он изрядным слогом, И чувств и мыслей полнотой Он одарен всевышним богом.
Прежде всего разъясним недоразумение: большинство исследователей механически переносит характеристику "приятеля" на Писателя. Это противоречит здравому смыслу, не соответствуя элементарному правилу вежливости: о присутствующих не говорят. Да и рекламирование таланта поэта, к которому критик и без того пришел как к признанному автору, неуместно. Неправильность этой аналогии раскрывается в крылатой реплике Журналиста:
Все это так, - да вот беда: Не пишут эти господа.
Собирательный образ показывает, что речь здесь идет не о действующем писателе, а о целой группе литературно одаренных, но почему-то молчащих людей. Кто же они, "эти господа"?
Еще при жизни Пушкина Вяземский настойчиво привлекал к литературе двух людей. Это - Александр Иванович Тургенев и князь Петр Борисович Козловский. Оба печатались в "Современнике" Пушкина. Во вступительной редакционной заметке к анонимно напечатанной "Хронике русского в Париже" Вяземский писал об А. Тургеневе: "Глубокомыслие, остроумие, верность и тонкая наблюдательность, оригинальность и индивидуальность слога, полного жизни и движения, которые везде пробиваются сквозь небрежность и беглость выражения,- служат доказательством того, чего можно было бы ожидать от пера, писавшего таким образом про себя, когда следовало бы ему писать про других..."*
* (Современник, 1836, кн. II, с. 311)
О Козловском и его рецензии на парижский ученый ежегодник, "без сомнения памятной читателям Современника", Вяземский вспоминал в 1840 году: "Новый писатель с первого раза умел найти и присвоить себе слог, что часто не дается и писателям, долго упражняющимся в письменном деле. Ясность, краткость, живость были отличительными чертами сего слога".
Когда Вяземский писал эти слова, он уже не призывал Тургенева к участию в литературе. Напротив, он с удовлетворением сообщает 9 января 1840 года: "У Тургенева есть прекрасная миссия, это - говорить".
Отзываясь положительно о литературном стиле Козловского- "в словах его были и достоинство ценности, и красивость отделки: то есть мысль и выражение",- Вяземский все же придавал большее значение его устной беседе. "Давно замечают, - пишет он, - что тайна и прелесть разговорчивости, коей последние отголоски приветствовали нас во дни нашей молодости, ныне уже преданы забвению. Болтунов найдешь, но говоруны перевелись. Единственные говоруны нашей эпохи: журналы". Вяземский прямо противопоставляет современную, "вульгарную", с его точки зрения, журналистику вырождающейся салонной культуре. С восхищением пишет он о Козловском: "На дипломатических обедах, на вечеринках литературных, в блестящих многолюдных собраниях, в отдельном и немногим доступном избранном и высшем обществе, голос князя Козловского раздавался неумолкно... Но истинное торжество князя Козловского, лучшая сцена для него была приятельская простая беседа"*.
* (Вяземский П. А. Поли. собр. соч., т. II. СПб., 1879, с. 287, 290-293)
Все это позволяет предположить, что "приятель" лермонтовского Читателя - это Козловский. Он принадлежал к группе, которая не пишет. Это группа бывших сотрудников пушкинского "Современника", переставших писать, и первое место среди них занимал сам Вяземский.
Он все глубже и глубже прячется в узкие закоулки частной беседы, уходит в "малые" литературные жанры дружеской переписки, заметок "для себя" ("Записная книжка") или устного рассказа, каламбура, анекдота.
"Письма мои в самом деле чертовски умны, так что самому страшно. Уж не нечистая ли сила пишет за меня?" - обращается он к родным 23 января 1840 года*. Своей эпистолярной деятельности Вяземский придает серьезнейшее значение. "Если Вы сохраните мое письмо, - пишет он графине Э. К. Мусиной-Пушкиной 18 октября 1837 года, - потомство получит ключ к Вашей загадке и разглядит Вас сквозь всю шутовскую мишуру, которой я покрыл моего идола или, - если это Вам больше правится, - мою святую"**. "Нет ли во мне тайной надежды, что вы покажете мое письмо с тем, чтобы знали в Европе, как у нас в России запросто, шутя, без приготовления пописывают дружеские, семейные письма", - пишет он 19 июля 1839 года в Баден.
* (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 122об" 131 об)
** (ЦГАДА, ф. 1270, оп. 1, ч. 3, № 3319, л. 18. Перевод с фр)
Уход в свободный, непринужденный эпистолярный жанр сопровождался у Вяземского оскудением его поэтической деятельности. "Хочется написать что-нибудь новое, но не пишется", - заявляет он 22 февраля 1840 года по поводу намерения Мейербера написать романс на его слова. "По старой привычке меня барыни закидывают альбомами, но не тут-то было. Как ни жилюсь, ни сти- шонка не выжмешь. От того и Мейерберу ничего нет" (9 марта 1840 г.). Послав наконец композитору новое стихотворение, Вяземский сопровождает его самокритическими замечаниями и заключает: "Что же делать? Чем богат, или чем беден, тем и рад"*. "Я ничего не пишу, но если бы когда-нибудь пробудилась рука моя, то охотно принесу вам дань", - пишет он С. П. Шевыреву 25 июня 1841 года**.
* (См. примеч. 25, л. 40, 144об" 151, 155)
** (Из собрания автографов имп. Публичной библиотеки. СПб., 1898, с. 97)
Если при начале издания "Современника", в 1836 году, Вяземский призывал А. И. Тургенева писать "про других", то теперь критика тщетно пыталась привлечь его самого к публичной литературной деятельности. Так, в рецензии на "Утреннюю зарю" 1841 года, где были помещены отрывки записей Вяземского о Фонвизине, В. Г. Белинский писал: "Только один князь Вяземский мог бы у нас написать историю литературы русской в отношении к обществу, так, чтоб это была история литературы и история цивилизации в России от Петра Великого до нашего времени". Высоко ценя Вяземского как знатока русского XVIII века, Белинский не забывал роли соратника Пушкина в начале XIX. Он призывал его написать об этом блестящем периоде: "Князь Вяземский играл одну из первых ролей в литературе этого времени, был в приятельских отношениях со всеми его действователями, - напоминает он и заключает: - Да, у нас есть люди, которые превосходно могли бы делать и то, и другое, да они мало делают, или ничего не делают"*.
* (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. IV, 1954, с. 454-455)
С других позиций о "молчании" Вяземского и всего литературного круга спутников Пушкина написал весной 1841 года В. А. Солоницкий, сотрудник "Библиотеки для чтения": "Поседелые рыцари гусиного пера Крылов, Жуковский, Вяземский и другие, к которым причисляет себя и Плетнев, по-прежнему не принадлежат ни к какой партии или, лучше сказать, составляют особое племя, которое ничего не делает, величественно покоясь на заслуженных и незаслуженных лаврах"*.
* (ГБЛ, ф. 178, папка 3099, № 54)
Вяземский оправдывает свою пассивную позицию объективными условиями. Сравнивая бурную общественную жизнь революционной Франции с монотонностью русской жизни, он полагает, что в самодержавной России полемика и гласность невозможны. "Их литература не только животрепещущая, - пишет он, - но и грозноволнуемая; она стихия, бурями и напастью подвизаемая; наша-такое пристанище жизни созерцательной, где прения, битвы, страсти, голоса житейские или не отзываются, или замирают в глухих отголосках"*.
* (См. примеч. 24)
Эти безнадежные слова, подготавливающие дальнейший переход Вяземского на крайние консервативные позиции, помещены им в некрологе Козловского, умершего в октябре 1840 года. "Журналист, Читатель и Писатель" был написан раньше, но подобные идеи Вяземский развивал после смерти Пушкина постоянно - на "маленьких раутиках" у себя дома, на "чтениях" в литературных салонах, у Карамзиных, где Лермонтов бывал ежедневно в 1839 году. Таким образом, положение "зрителя", а не "деятеля" эпохи Вяземский занял принципиально. Это и позволило Лермонтову, не рискуя обидеть поэта, назвать его в своем стихотворении Читателем.
3
Глубокий внутренний спор с Вяземским и "пушкинским" кругом содержится в монологе Писателя. На первый взгляд он солидарен с Читателем. Он прямо отвечает Журналисту, что ничего не пишет. Однако из его монолога выясняется, что пишет-то он очень много, но не все печатает. Он не задает себе вопроса, зачем писать, нет, он только дважды повторяет: "о чем писать?" Иными словами, Писатель ставит вопрос о том, какая именно литература нужна сейчас русскому обществу.
Не надо забывать, что "Журналист, Читатель и Писатель" написан накануне выхода "Героя нашего времени". Вместе с Н. И. Мордовченко и Б. М. Эйхенбаумом мы вправе рассматривать стихотворение как предисловие к роману. В настоящем предисловии к "Журналу Печорина" (помещенном между первой и второй частями) Лермонтов тоже говорит о тематическом содержании своего творчества, но написано оно сдержанно и даже уклончиво: "Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? - Мой ответ - заглавие этой книги. "Да это злая ирония!" - скажут они. - Не знаю". В этих осторожных словах слышится еще неуверенность автора: как будет принят его роман читателями и критикой?
Той же тревогой проникнут монолог Писателя, написанный в то время, когда "Герой нашего времени" был известен только узкому кругу слушателей.
До нас дошли некоторые частные отклики на "Героя нашего времени" после выхода книги. Доктор Майер не узнал в авторе романа своего вольнолюбивого, просвещенного и смелого в суждениях друга. Юрий Самарин, собеседник Лермонтова, считал, что поэт умер, не успев "оправдаться" за свой роман "перед Россией"*. Кюхельбекер, прочитав "Героя" в крепости, пожалел, что Лермонтов "истратил свой талант на изображение такого существа, каков его гадкий Печорин"**. Плетнев "никогда не ожидал, чтобы человек с талантом, как Лермонтов, был до такой степени утомителен и даже несносен, как он, в своей княжне Мери"***. Все приведенные мнения сходятся на том, что роман Лермонтова ниже возможностей его автора. Очевидно предвидя такое отношение к "Герою..." в писательской среде, Лермонтов в стихах дает развернутую мотивировку своего самоограничения.
* (Герштейн Э. Г. Отклики современников на смерть Лермонтова.- В сб.: М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы. М., Соцэкгиз, 1939, с. 68; Бильбасов В. А. Ю. Ф. Самарин и И. С. Гагарин,- Новое слово, 1894, кн. 2, с. 44-45)
** (Кюхельбекер В. К. Путешествия. Дневник. Статьи. Л., Наука, 1979, с. 415)
*** (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I. СПб., 1896, с. 145-146)
Совсем незадолго до "Журналиста, Читателя и Писателя" Лермонтов уже откликнулся в альбомном стихотворении к С. Н. Карамзиной на какие-то ее упреки. В стихотворении "Любил и я в былые годы..." Лермонтов перевел спор в бытовой план, отделавшись шуткой. Вместо "тайных бурь страстей", эфемерность которых он уже постиг, он открывает новые радости - "поутру ясную погоду, под вечер тихий разговор". Этот образ успокоенности завершается примером уютного, изящного и веселого времяпрепровождения в узком дружеском кругу: "Люблю я парадоксы ваши, и ха-ха-ха и хи-хи-хи, Смирновой штучку, фарсы Саши и Ишки Мятлева стихи". Здесь Лермонтов отдает должное столь излюбленной Вяземским салонной культуре.
В "Журналисте..." он возвращается к той же теме, но говорит о "несвязном оглушающем языке" страстей с таким нагнетанием, которое позволяет нам узнать в поэте предшественника Достоевского. "Жадная тоска", "соблазнительная повесть", "сокрытые дела", "незримые и упорные" душевные битвы, "порок", "позор", "горькие строки", "знойные страницы", "необузданный поток"- такими словами характеризует Лермонтов отрицательную, разоблачительную струю своего творчества.
Пусть "Герой нашего времени" не принесет автору той литературной славы, которой он мог бы добиться,- он не станет на тот путь, который ему указывают его советчики из "пушкинского" круга. Вот в каком аспекте можно рассмотреть исповедь поэта в "Журналисте, Читателе и Писателе".
Можно вспомнить в этой связи замечание С. Н. Карамзиной по поводу "Демона", читанного у них Лермонтовым еще в 1838 году: "Ты скажешь, что название избитое, но сюжет новый, он полон свежести и прекрасной поэзии. Поистине блестящая звезда восходит па нашем ныне столь бледном и тусклом литературном небосклоне"*. Письмо адресовано сестре, Е. Н. Мещерской, которая не имела никакого отношения к литературе. Но здесь сказывается инерция среды, привычка к чтению и обсуждению созданий лучших поэтов и прозаиков эпохи, запросто бывавших в доме Карамзиных. Если Софья Николаевна допускала, что "Демон" покажется Мещерской банальным, то еще большей опасности подвергался в этом отношении "Герой нашего времени". Увидеть новое в типе Печорина было чрезвычайно трудно среде, воспитанной на "Евгении Онегине" и на "Адольфе". По слову Пушкина, этот роман Бенжамена Констана принадлежал "к числу двух или трех романов,
* (Лермонтов в переписке Карамзиных.- В кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., Наука, 1979, с. 355. Перевод с фр)
В которых отразился век, И современный человек Изображен довольно верно С его безнравственной душой, Себялюбивой и сухой, Мечтаньям преданной безмерно, С его озлобленным умом. Кипящим в действии пустом".
"Бенжамен Констан, - продолжал Пушкин, - первый вывел на сцену сей характер, впоследствии обнародованный гением лорда Байрона"*.
* (Пушкин А. С. Поли. собр. соч. в 16-ти томах, т. 11. М, Изд-во АН СССР, 1949, с. 87)
Эту заметку Пушкин напечатал без подписи в "Литературной газете" в 1830 году по поводу выхода в свет перевода на русский язык романа Констана. Переводчиком, как известно, был П. А. Вяземский. "С нетерпением ожидаем появления сей книги, - писал Пушкин. - Любопытно видеть, каким образом опытное и живое перо кн. Вяземского победило трудность метафизического языка, всегда стройного, светского, часто вдохновенного. В сем отношении перевод будет истинным созданием и важным событием в истории нашей литературы".
Прошло десять лет, и Лермонтов выступает с новым вариантом образа скучающего и тоскующего молодого человека XIX столетия. Мог ли Вяземский отнестись к роману Лермонтова иначе, как эпигонскому? Последующие его замечания о русской поэзии после пушкинского десятилетия подсказывают нам ответ. У Вяземского не было слуха на новую форму и содержание творчества Лермонтова. Признавая за ним "великое дарование", Вяземский не смог увидеть в нем ничего, кроме "русского и слабого осколка Байрона". Для него, застывшего на позициях политического консерватизма, остался закрытым живой мир творений Лермонтова. Поэт был в его глазах "мастерским художником", "увлекательно и благозвучно" повторявшим поэтическую речь Пушкина*.
* (Полн. собр. соч. кн. П. А. Вяземского, т. II. СПб, 1879, с. 359)
Висковатов передавал со слов Краевского, что Лермонтов относился к Вяземскому с уважением, но холодно и отчужденно. Дело обстояло гораздо сложнее. Вяземский оставался для Лермонтова представителем пушкинской эпохи, соратником гения, перед которым Лермонтов, по свидетельству Белинского, "благоговел" в 1840 году, "больше всего любя Онегина".
Как сильно действовало на Лермонтова обаяние атмосферы пушкинского дружеского круга, видно из эпизода, рассказанного С. Н. Карамзиной в письме к сестре. Лермонтов был радушно принят у Карамзиных, привык к ним и, казалось бы, находил полное признание своего таланта. Однако, когда ему пришлось писать стихи в альбом Софьи Николаевны, где до него писали Пушкин, Вяземский, Баратынский, Дельвиг... он смутился. С. Н. Карамзина рассказывает содержание несохранившегося стихотворения Лермонтова, написанного на последней странице ее альбома: "Он-де не осмеливается писать там, где оставили свои имена столько знаменитых людей, с большинством из которых он не знаком; что среди них он чувствует себя, как неловкий дебютант, который входит в гостиную, где оказывается не в курсе идей и разговоров, но он улыбается шуткам, делая вид, что понимает их, и, наконец, смущенный и сбитый с толку, с грустью забивается в укромный уголок"*. Лермонтов, напечатавший к этому времени в "Отечественных записках" "Думу", "Поэта", "Не верь себе", "Русалку", "Ветку Палестины", "Еврейскую мелодию (из Байрона)" и "Бэлу", видевший уже в печати положительные рецензии, робел не только перед Пушкиным, но и перед его современниками - поэтами и знакомыми. Интересно, что когда во второй книге "Отечественных записок" был напечатан "Поэт", А. О. Смирнова отозвалась об этом номере: "очень плох"**.
* (См. примеч. 35, с. 357)
** (ЦГАЛИ, ф. 195, on. 1, № 2761, л. 27об)
Она не забыла упомянуть в этом письме к Вяземскому, что Софья Карамзина неравнодушна к Лермонтову, но не нашла доброго слова для его стихотворения. "Что делать? - Речью безыскусной ваш ум занять мне не дано..." - писал Лермонтов в альбом Смирновой. В кругу спутников Пушкина Лермонтову было очень трудно завоевать настоящее признание своего поэтического гения.
Все здесь сказанное нам нужно учитывать, когда мы говорим о поэтическом предисловии к "Герою нашего времени", каким можно считать "Журналиста, Читателя и Писателя".
Историко-литературное значение этой декларации Лермонтова достаточно разъяснено советским литературоведением. Поэт производит отчетливое размежевание между старой и новой литературными школами и обосновывает свой переход от юношеского романтизма к реалистической литературе. "Журналист, Читатель и Писатель" был рассмотрен еще в одной связи. В. И. Кулешов в книге "Отечественные записки" и литература 40-х годов XIX в." поставил стихотворение Лермонтова в один ряд с одновременными статьями Белинского, в которых он критически обозревает современную журналистику и говорит о задачах "Отечественных записок" в воспитании демократического читателя.
Исследователь полагает, что в своем стихотворении Лермонтов тоже предъявляет требования к критике, заключая "предварительное условие" и с публикой. "Журналистика - мощное средство "приуготовления" читателя к восприятию современных идей, воспитания в нем гражданской отзывчивости, способности и готовности идти вслед за писателем, вслед за журналом в "заговор идей". Но для этого сама журналистика должна быть другой", - формулирует Кулешов основную мысль стихотворения Лермонтова*, При этом исследователь опи рается на предисловие ко второму изданию "Героя нашего времени", где Лермонтов жалуется на "молодость и простодушие" публики, "дурно воспитанной", не умеющей понимать ни художественные произведения, ни критические статьи.
* (Кулешов В. И. "Отечественные записки" и литература 40-х годов XIX в. М" 1958, с. 52-53)
Если говорить об общественной позиции Лермонтова и о факте опубликования его стихов в "Отечественных записках", то это сопоставление закономерно, а выводы исследователя бесспорны. Но когда мы переводим лирические стихи на язык публицистики, мы неизбежно при этом теряем существо поэтического творчества - его лирическое волнение. В стихах, где Лермонтов с невиданной еще в литературе обнаженностью описывает самый процесс возникновения стихов*, невозможно видеть только "предварительное условие" поэта с критикой и читателем о согласованных действиях.
* (Наблюдение Анны Андреевны Ахматовой. См. мои воспоминания "В Замоскворечье" (Литературное обозрение, 1985, № 7 с. 107))
Сопоставляя "Журналиста, Читателя и Писателя" с предисловием к первому, а не ко второму изданию "Героя нашего времени", мы улавливаем общую обоим, произведениям тревогу автора за судьбу своего создания. Одним из источников этого законного волнения было непонимание творческого развития Лермонтова в литературном кругу, который условно можно назвать "пушкинским". Вскрыть эти ассоциации нам помог образ Вяземского, изображенный в стихотворении Лермонтова. Исповедь поэта представляется нам страстным оправданием писателя, выступающего с произведением, в котором поначалу даже Белинский нашел "что-то неразгаданное, как бы недоговоренное".
Но именно Белинский первый протянул руку Лермонтову. Как только "Герой нашего времени" был напечатан, критик приехал к автору в Ордонансгауз. Знаменитая беседа Белинского с Лермонтовым началась с "Героя...". В следующей, майской, книге "Отечественных записок" уже появилась предварительная заметка критика о прозе Лермонтова, где он назвал ее "явлением истинного искусства". Белинский писал в этой заметке, что "в основной идее романа г. Лермонтова лежит важный современный вопрос о внутреннем человеке, вопрос, на который откликнутся все". Через год "Отечественные записки" могли уже заявить, что "Герой нашего времени", "принятый с таким энтузиазмом публикою, теперь' уже не существует в книжных лавках: первое издание, все раскуплено". Белинский в двух больших статьях о творчестве Лермонтова писал, что его поэзия "совсем новое звено в цепи исторического развития нашего общества"*.
* (Белинский В. Г. Поли. собр. соч., т. V, 1954, с. 267, 146, 503)
Стихотворения Лермонтова вышли из печати отдельной книгой, сам автор вернулся с Кавказа совсем другим человеком. Вторая ссылка подарила ему встречи, далеко раздвигающие его кругозор. Поэт воевал, сталкивался лицом к лицу с неприятелем, подвергал свою жизнь опасности, приобрел военное умение, узнал радость боевого товарищества. Он наблюдал представителей высшего командования в их действиях и в частных беседах, полюбил армейского офицера, сблизился с солдатом. Освободившись в своем романе от образа петербургского молодого человека, Лермонтов переходил к новым сюжетам, новым жанрам и новым темам.
Вот тогда-то, спокойный и уверенный, намечал он в предисловии ко второму изданию своего романа конкретные задачи для современной критики, несомненно опираясь уже на статьи Белинского. Замечания Лермонтова о "невоспитанности" публики и о все еще недостаточно!! связи журналистики с читателем стоят в одном ряду с дошедшими до нас осколками мнений поэта последнего года его короткой жизни: о чуждых иноземных влияниях в воспитании юношества (воспоминания Забеллы), о необразованности офицера царской армии ("Кавказец"), о политической пассивности крестьянства (беседа с Ю. Самариным)*. Этот строй идей писателя, сознающего свои силы, нельзя смешивать с идеями "Журналиста, Читателя и Писателя", являющегося итогом преемственных отношений Лермонтова с журналистикой и литературой пушкинского времени и написанного под влиянием тревожных сомнений в успехе романа.
* (См. дальше, в главе "Кружок шестнадцати")
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://m-y-lermontov.ru/ "M-Y-Lermontov.ru: Михаил Юрьевич Лермонтов"