
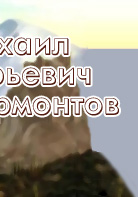
Библиотека
Энциклопедия
Ссылки
О проекте

За страницами "большого света"
1
Лермонтов "много потерпел от ложных друзей", - писал Ф. Боденштедт, самый ранний биограф поэта*.
* (Воспоминания, с. 287)
Иллюстрацией этого заявления служит история литературных и личных отношений Лермонтова с Соллогубом.
В. А. Соллогуб начал свою литературную деятельность одновременно с Лермонтовым, своим сверстником. В 1837 году произведения обоих писателей были напечатаны в посмертном издании пушкинского "Современника". Лермонтов дал "Бородино", Соллогуб рассказ "Два студента", посвященный Карамзиным. В 1838 году в "Литературных прибавлениях" к "Русскому инвалиду" появились без полной подписи "Песня про купца Калашникова" и рассказ Соллогуба "Сережа". В обновленных с 1839 года "Отечественных записках" в первой же книге были помещены "Дума" Лермонтова и повесть Соллогуба "История двух калош". В критических статьях, читательских откликах и письмах современников имена обоих писателей всегда ставились рядом.
В. Г. Белинский приветствовал беллетристический талант Соллогуба, рассматривая его произведения как шаг вперед в развитии русской реалистической повести. В "Истории двух калош" рассказана печальная история бедного скрипача, подвергавшегося унижениям в великосветских музыкальных салонах. В "Сереже", "Большом свете" и в более позднем "Бесе" развенчивается тип ложного светского "льва", тщеславного и суетного (отсюда фамилия "Леонин" в "Большом свете", "Леонов" в "Бесе"; Leo - по-латыни лев). Эту линию продолжил вскоре И. И. Панаев в своих известных очерках о провинциальных "львах".
"Большой свет" был начат в январе - апреле 1839 года: в мае Соллогуб послал первую часть В, Ф. Одоевскому с просьбой подыскать эпиграфы к главам*. Автор долго не приступал ко второй части. Она была готова почти что через год: повесть появилась целиком в "Отечественных записках" только в марте 1840 года.
* (Заборова Р. Б. Лермонтов и Соллогуб. - Труды Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, т. V (8). Л., 1958)
Прочитав рукопись, Белинский заявил, что Соллогуб "повыше всех Бальзаков и Гюгов"*. По выходе повести из печати Белинский продолжал в обзорных статьях отзываться о ней положительно.
* (Белинский В. Г. Полн. собр. соч., т. XI. М., Изд-во АН СССР, 1956, с. 510)
Читательские мнения разделились. Широкий успех повести был обеспечен автору знанием великосветской жизни, описанной живо, достоверно и с превосходством насмешливого наблюдателя. Но некоторые читатели были разочарованы. П. Н. Кудрявцев писал Белинскому 3 апреля 1840 года: "Вот Большой свет, на который я возлагал столько блестящих надежд и которого ждал почти с нетерпением, произвел на меня совершенно противное действие, или почти не произвел никакого: может быть, это тоже одна из превосходных вещей - не спорю, но что касается до меня, я, кажется, предпочел бы ей небольшой рассказ Лермонтова*, недавно напечатанный тоже в Записках, а вся беда в том, что в повести Соллогуба я не нашел ни одного истинного чувства и потому расстался с нею теперь без всякого чувства"**.
* ("Тамань")
** (В. Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1948, с. 141)
Разругал "Большой свет" и В. П. Боткин. Его письмо к Белинскому до нас не дошло, но об этом можно судить по ответу критика: "К повести Соллогуба ты чересчур строг: прекрасная беллетристическая повесть - вот и все. Много верного и истинного в положении, много чувствительности, еще больше блеску. Только Сафьев - ложное лицо. А впрочем, славная вещь, бог с ней. Лермонтов думает так же. Хоть и салонный человек, а его не надуешь, - себе на уме..."*
* (См. примеч. 3)
Ссылку Белинского на мнение Лермонтова обычно приводят в доказательство отсутствия личных намеков в "Большом свете". Сторонники этой версии утверждают даже, что никто и не замечал их до тех пор, пока Соллогуб не написал в 1865 году в своих воспоминаниях: "С Лермонтовым я сблизился у Карамзиных и был в одно время с ним сотрудником "Отечественных записок". Светское его значение я изобразил под именем Леонина в моей повести "Большой свет", написанной по заказу великой княгини Марии Николаевны"*.
* (Соллогуб В. А. Воспоминания. Под ред. Шестерикова. М. - Л., Academia, 1931, с. 339)
Соллогуб очень ясно провел здесь черту между литературными и личными отношениями своими с Лермонтовым. То же самое сделал и поэт в разговоре с Белинским. В том обществе, где Лермонтов встречался с Соллогубом, намеки повести были поняты сразу, а из великосветских кругов толки о прототипах "Большого света" проникли в широкую среду. "Как гласят никому уже не секретные литературные преданья, в фигуре Леонина довольно ловко выставлена комическая сторона великосветских стремлений поэта", - писал Аполлон Григорьев в 1862 году*. Таким образом, в литературных кругах эти слухи циркулировали еще до опубликования, воспоминаний Соллогуба.
* (Григорьев Аполлон. Лермонтов и его направление. Крайние грани развития отрицательного взгляда. Статья третья. - Время, 1862, N° 12, с. 34)
Злободневность повести была замечена сразу по выходе в свет третьей книги "Отечественных записок". Подписчикам она была разослана 19 марта, и в тот же день мы встречаем два отклика на "повесть о двух танцах" Соллогуба. П. А. Вяземский сообщал родным: "Соллогуб написал повесть, в которой много петербургских намеков и актуалитетов. Но я недоволен разговорным языком: сцена в фашьонабельных салонах, даже, вероятно, и в воронцовском, а разговор костромской"*.
* (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 156об)
С интересом прочитали "Большой свет" и во дворце. 19 марта императрица записывает: "Одна Барятинская). Читали повесть Салагуба Большой свет". На следующий день: "...вечером опять читали как вчера, Н(икс) (нрзб.) Виельг(орский?), Трубецкая*.
* (ЦГАОР, ф. 672, оп. 1, № 416, л. 52об. Перевод с нем. Слова: ".. .повесть Салагуба Большой свет" - по-русски)
Произведение представляло для всех собравшихся особый, дополнительный интерес: автор описывал в "Большом свете" историю своей любви к дочери М. Ю. Виельгорского.
Надо думать, что изображение этого чувства и соперничества двух героев - князя Щетинина и Леонина - понравилось Николаю I и двору. Через месяц, 19 апреля, была объявлена помолвка фрейлины императрицы Софьи Михайловны Виельгорской с Соллогубом. "Он каждый день все более и более с нами сходится, - писал М. Ю. Виельгорский В. А. Жуковскому 26 апреля,-и Софья, кажется, начинает к нему нежиться. Она сама решила: уж более двух лет, как он ее любит, чувство к ней он описал в лице Надины его повести (читал ли ее?) в трех танцах"*.
* (Русский архив, 1902, № 7, с. 446. Письмо М. Ю. Виельгорского впервые привлечено к изучению повести "Большой свет" Р. Б. Заборовой в указанной публикация (см. примеч. 2))
Братья Виельгорские, оставившие заметный след в истории развития музыкальной культуры в России, были также и топкими царедворцами. Виолончелист Матвей
Юрьевич носил придворное звание, Михаил Юрьевич, композитор, меценат, эрудит, был в России проводником европейской музыки. В его концертном зале в 1840 году немецкая труппа исполняет "Гугенотов" Мейербера, выступают европейские виртуозы, постоянная гостья - Росси... Дом Виельгорских па Михайловской площади был, собственно говоря, придворной концертной залой. Здесь часто присутствовали члены царской семьи. Так, П. А. Вяземский, сообщая жене и дочери о репетиции у Виельгорских моцартовского "Дон-Жуана", писал 14 марта 1840 года: "Графиня Росси пела дону Анну прелестно. Григорий Волконский Лепорелло. Прочие мужчины и так и сяк, Владимир Соллогуб, Николай Пашков. Правда, что это была только первая репетиция с оркестром, да и всем этим аматерам при голосе гр. Росси петь сокрушительно. Собрание было блестящее: Мария Николаевна за дверью*, герцог Лейхтенбергский, принц Ольденбургский, Михаил Виельгорский был в восторге от пения и парил на нем так - катался с боку на бок"**.
* (Из-за беременности)
** (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 153)
В письме Вяземского живо передана та атмосфера музыкальных вечеров у Виельгорских, которая позволила позднейшему официозному историку П. И. Бартеневу восторженно назвать этот дом "универсальной академией искусств под сенью царской милости"*.
* (Русский архив, 1902, № 7, с. 436)
М. Ю. Виельгорский занимал при дворе, по выражению одного современника, "высокое, так сказать, совершенно выходящее из ряда общего положение". Сын его Иосиф (умерший в 1839 году) воспитывался вместе с наследником. Старшая дочь, Аполлинария, была другом детства и любимой приближенной великой княгини Марии Николаевны. "Все три дочери Виельгорского все время с нами", - сообщала императрица о своей заграничной поездке в 1837 году. "Я очень рад был, когда узнал, что великие княжны вас полюбили и с вами проводили все время", - писал Иосиф Виельгорский в Петергоф 25 июля 1838 года*. Письмо адресовано средней сестре, Софье. 1 января 1839 года она была назначена фрейлиной императрицы. Когда через два года она вышла замуж за Соллогуба, бракосочетание совершилось (13 ноября 1840 года) в малой церкви Зимнего дворца, венчал царский духовник Бажанов, посаженым отцом невесты был Николай I. После венчания на вечере у Виельгорских присутствовал весь двор.
* (ГБЛ, ф. Веневитиновых-Виельгорских, М/8484/2. Перевод с фр)
Стремительно произошло их обручение 19 апреля 1840 года. "Не могу объяснить вам, каким образом участь моя так неожиданно переменилась", - писала невеста В. А. Жуковскому 28 апреля. О внезапности семейного переворота пишет поэту и будущий тесть: "Вероятно, тебе уже известно важное происшествие в моем семействе. Оно было так неожиданно, некоторым образом наперекор тайных моих желаний и предположений, что первую минуту я не знал (и не мог) радоваться ли или жалеть" (26 апреля)*. Жуковский в это время находился в свите путешествующего наследника. Виельгорский продолжает: "Свадьбу мы сыграем с помощью божией после вашего возвращения, т. е. в ноябре. Брат из Мюнхена возвращается для этого. Его благословение и присутствие необходимы. Он едет с Марией Николаевной в августе. Это обстоятельство нас решило". М. Ю. Виельгорскип был назначен гофмейстером двора великой княгини Марии Николаевны и сопровождал ее в Мюнхен. Как видим, свадьба Софьи Виельгорской и Соллогуба находилась в зависимости от высоких придворных интриг. "Луиза была главным двигателем всего", - подчеркивает Виельгорский свою к ним непричастность. Дело было устроено его женой, надменной внучкой Бирона Луизой Карловной Виельгорской.
* (См. примеч. 10)
Великая княгиня не могла не знать от девиц Виельгорских о всех перипетиях любви Соллогуба к Софье Михайловне. Хороший повод для совета - описать эту "интересную" историю в повести.
Увлекательно было узнавать прототипов в персонажах повести. Надииа - Софья. Князь Щетинин - Соллогуб. Мишель Леонин - Лермонтов. Блестящая княгиня Воротынская, кузина князя Щетинина, - графиня А. К. Воронцова-Дашкова (приходившаяся Соллогубу двоюродной сестрой). Сафьев имеет поразительное внешнее сходство с С. А. Соболевским, другом Пушкина, а затем и Лермонтова. Автор использовал характерный жест Соболевского: Сафьев во время беседы закладывает руку за жилет и вскидывает голову*. Но, по мнению злопыхателей, проникновение Лермонтова в высший круг произошло вследствие возвышения его родственников Столыпиных и благодаря успеху красавца Монго у великосветских "львиц", поэтому свет охотно принимает его за прототип Сафьева. Кстати говоря, в повести
* (Ср.: "Соболевский ходил по комнате, вздернув, по обыкновению, голову и запустив палец в отверстие жилета под мышкой. Вдруг он рассмеялся своим добродушно-циническим смехом" (Воспоминания В. А. Соллогуба. - Русский мир, 1874, 3 сентября, № 243, с. 1).
"Сафьев, задев палец за жилет, стоял в молчании подле нее и насмешливо улыбался". Или: "Один - высокого роста, уже не первой молодости, с пальцем, заложенным за жилет, в лондонском черном фраке..." (Соллогуб В. А. Сочинения, т. 1. СПб., 1855, с. 140))
Леонин обращается с просьбами познакомить его с великосветскими львицами также и к князю Щетинину, то есть самому Соллогубу.
В повести Соллогуб тонко отделил живого Лермонтова-поэта от героя Леонина, так же как и самого себя от князя Щетинина. Используя обычный для светской повести литературный прием, он вводит под прозрачными криптонимами упоминание о двух писателях, одновременно завоевавших успех в великосветских салонах: "Хотите, я поеду обедать к Ф., - обращается Щетинин к Воротынской, - и буду разбирать с ним каждое блюдо поодиночке? Хотите, я целый день проведу с устаревшими поклонниками вашими, из которых один открыл Англию, а другой Италию? Хотите, я буду играть в вист с вашей глухой тетушкой, а потом поеду слушать стихи Л(ермонтова) и повести С(оллогу)ба?.. Все жертвы готов я вам принесть".
Стихи Лермонтова и повести Соллогуба - модная новинка в великосветских салонах. "Записки Краевского (то есть "Отечественные записки") трещат теперь по всем гостиным и салонам", - писал Соллогуб в январе 1839 года*. "История двух калош", по свидетельству И. Панаева, "наделала столько шуму, что она читалась даже теми, которые никогда ничего не читали... по крайней мере по-русски; в большом свете с неделю только и говорили об этих "Калошах"... Соллогуб был в ходу"**. "Дамы, желающие, чтобы в их салонах были замечательные люди, приглашают меня... Самые хорошенькие женщины добиваются моих стихов, - писал Лермонтов М. А. Лопухиной в конце 1838 года, - и хвастаются ими как величайшей победой".
* (См. примеч. 2)
** (Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., Художественная литература, 1950, с. 270)
Соллогуб чувствовал себя в своей стихии. Он переписывал, распространял и считал для себя честью и радостью первым доставить новое стихотворение Лермонтова. Известно, что он был ценителем искусства, не страдал литературной завистью, восхищаясь бескорыстно и искренне каждым новым дарованием. Мы не можем заподозрить его в литературном соперничестве с Лермонтовым, но светские успехи поэта не были ему безразличны, поскольку к этому примешивались придворные интриги и твердое желание добиться руки С. М. Виельгорской, которую он ревновал к Лермонтову. На этой почве и возник такой беспримерный замысел, как изображение своего друга и товарища в пародийной повести.
В "свинском Петербурге" обратили внимание только на те грубые места "Большого света", где великосветские претензии Леонина выставлены в унижающем его виде. С удовольствием повторялись реплики маленького корнета, мечтающего об Андреевской ленте и о приглашении в Аничков дворец. Соллогуб, прекрасно знавший об интересе к Лермонтову императрицы, грешил против истины, увлеченный тайным недобрым чувством к другу- писателю и твердым намерением угодить великой княгине Марии Николаевне. Беспринципность будущего зятя Виельгорских, ставшая очевидной современникам только после многих лет его литературной деятельности, была отмечена М. Б. Лобановым-Ростовским: "Соллогуб, умный человек и хороший писатель, многими высоко ценимый и повсюду принятый, но негодяй по своим низменным инстинктам и по цинизму, с которым он насмехался надо всем"*.
* (Воспоминания М. Б. Лобанова-Ростовского. - ГИМ, ф. 174, № 5. Перевод с фр)
Цинизм Соллогуба проступает особенно ясно, если учесть, как высоко он ставил дарование Лермонтова и какой тесной дружбой он был с ним связан в первые годы возвращения поэта из кавказской ссылки.
Тем не менее пресловутую повесть Соллогуба нельзя назвать "низкопробным памфлетом", как это делала я сама, не изучив еще с достаточной глубиной этой сложной главы из биографии Лермонтова. "Большой свет" скорее подходит под определение литературной пародии, хотя местами все же опускающейся до уровня пасквиля. Большим сходством с натурой отмечен, например, внешний портрет Лермонтова, который можно было бы принять за пародию на мемуары И. С. Тургенева, если бы мы не знали, что автор "Отцов и детей" писал свои литературные воспоминания гораздо позже Соллогуба. Очевидно, оба писателя сохраняли верность природе. Вспомним, как поразил И. Тургенева облик Лермонтова "какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью", которыми "веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз"*. Соллогуб рисует пародийный портрет Лермонтова, сходный с портретом Тургенева, но дает обидное и пошлое толкование отрешенности героя.
* (Воспоминания, с. 228)
"И Леонин явился по привычке па бал. Поутру заимодавцы не давали ему покоя. Начальник его обещал ему за нерадение к службе отсылку в армию. Графиня не приняла его, извиняясь головною болью, хотя трое саней стояло у ее подъезда.
Ему было неимоверно душно. Лицо его было бледно, глаза неподвижны. Все на бале его видели и никто не заметил".
Те же "неподвижные глаза", и даже фраза "ему было неимоверно душно" напоминает заключение Тургенева: "внутренне Лермонтов задыхался в той тесной сфере, куда его втолкнула судьба".
Разумеется, эта злая пародия не могла не напомнить читателю автопортрет Лермонтова в стихотворении "1-е января". И так же, как с этими стихами легенда связывала маскарадный эпизод, так же "Большой свет" сопоставляли с "1-м января", понимая, что два эти произведения олицетворяют две разные силы, движущие обоими писателями-современниками. Сервилизм и беспринципность- с одной стороны, "дух независимости и безграничной свободы" - с другой.
При внимательном чтении "Большого света" обнаруживается, что вся повесть пропитана образами и идеями лирики Лермонтова, переданными талантливым беллетристом пародийно. Это дает ключ к более глубокому пониманию не только причин знаменитого литературного скандала, но и некоторых произведений самого Лермонтова.
2
Стихотворение "Есть речи - значенье...", казалось бы, не поддается рационалистическому объяснению:
Не встретит ответа Средь шума мирского Из пламя и света Рожденное слово...
Но, несмотря на библейскую лексику, "слово" Лермонтова не выражает наития древних пророков. Наоборот, оно противопоставлено религиозному чувству:
Не кончив молитвы, На звук тот отвечу...
Это стихотворение, напечатанное в январе 1841 года, можно сблизить с отроческой "Молитвой" Лермонтова, написанной еще в 1829 году. Религия и искусство изображены здесь как два противоборствующие начала:
Но угаси сей чудный пламень, Всесожигающий костер, Преобрати мне сердце в камень, Останови голодный взор: От страшной жажды песнопенья Пускай, творец, освобожусь, Тогда на тесный путь спасенья К тебе я снова обращусь.
В стихотворении "Есть речи - значенье..." религии противопоставлено не искусство, а могущественная сила любви:
Как полны их звуки Безумством желанья! В них слезы разлуки, В них трепет свиданья
Романтический порыв едва ли не бесплотной любви (только к звуку речи) выражен поэтом в очень простых образах. Стихотворение, в котором воплощено почти неуловимое чувство ("Есть речи - значенье// Темно иль ничтожно,// Но им без волненья// Внимать невозможно"), перекликается со стихами, обращенными к реальному лицу. Из промежуточного варианта видно, что здесь поэт отражал обаяние слов живой женщины:
Надежды в них дышат, И жизнь в них играет, - Их многие слышат, Один понимает.
Особенностью неизвестной вдохновительницы этих стихов были "целебные звуки волшебного слова". Эти же строки попали в вариант, напечатанный после смерти Лермонтова как самостоятельное стихотворение под произвольным редакторским названием "Волшебные звуки". У Лермонтова есть другой цикл стихов, посвященный неизвестной девушке, отличительной чертой которой был "звук волшебной речи". Первый набросок из стихотворений этого цикла, покоряющий нас стремительностью и открытостью чувства, повторяет ту же тему, что и вариант:
Слышу ли голос твои Звонкий и ласковый, Как птичка в клетке Сердце запрыгает; Встречу ль глаза твои Лазурно-глубокие, Душа им навстречу Из груди просится... Лишь сердца родного Коснутся в дни муки Волшебного слова Целебные звуки, Душа их с моленьем, Как ангела, встретит, И долгим биеньем Им сердце ответит.
В первом наброске портрет женщины оживлен теплым штрихом: "глаза твои лазурно-глубокие". Набросок этот и по содержанию и по расположению в рукописи примыкает к двум другим стихотворениям, имеющим вполне законченную форму и не выходящим за рамки, приличествующие мадригалу: "Она поет - и звуки тают..." и "Как небеса, твой взор блистает...". Все три стихотворения обращены к голубоглазой девушке, звук ее голоса сравнивается с поцелуем. Во втором из названных стихотворений встречается и временной признак. В нем прямо говорится, что стихи вызваны действительным жизненным событием - встречей с девушкой, доселе незнакомой:
Но жизнью бранной и мятежной Не тешусь я с тех пор, Как услыхал твой голос нежный И встретил милый взор.
Это стихотворение имеет свой сюжет. За "звук один волшебной речи" и "за... единый взгляд" голубоглазой девушки герой "рад отдать красавца сечи, грузинский" свой булат. Образ "бранной и мятежной" жизни и упоминание о грузинском кинжале заставляли комментаторов ассоциировать это стихотворение с пребыванием Лермонтова на Кавказе. Некоторые исследователи придерживаются этой точки зрения и сейчас*. Но "Геурга старого изделье" упоминается и в двух других стихотворениях Лермонтова - "Кинжал" и "Поэт". В первом из них сказано, что "грузинский булат" был поднесен герою стихотворения "в знак памяти в минуту расставанья" (в черновике даже "на вечную разлуку"). Эти наблюдения И. Андроникова позволили ему прийти к правильному выводу, что все названные стихи написаны Лермонтовым уже по возвращении в Россию из первой кавказской ссылки в начале 1838 года**. Соображения эти поддерживаются тем, что по положению в рукописи указанные стихотворения (кроме "Поэта") связаны с двумя отрывками из "Тамбовской казначейши". А из письма Лермонтова к М. А. Лопухиной от 15 февраля 1838 года известно, что по возвращении в Петербург поэт тотчас отнес В. А. Жуковскому готовую рукопись своей поэмы, которая и была принята для опубликования в ближайшем номере "Современника". Эта рукопись пропала. Но сохранились два упомянутых отрывка. Естественно предположить, что при подготовке к пе чатн своего произведения у автора могла возникнуть необходимость некоторых переделок, вот почему мы и находим рядом с обсуждаемыми стихами отдельные отрывки из "Тамбовской казначейши". Следовательно, всю эту группу стихов мы вправе отнести к 1838 году и в дальнейшем нашем изложении мы будем исходить из того, что голубоглазая девушка с обаятельным голосом и певучими движениями впервые встретилась Лермонтову в Петербурге в начале 1838 года.
* (См.: Шадури В. С. Новое о М. В. Дмитревском - приятеле Лермонтова и декабристов. - В кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и находки. Л., Наука, 1979, с. 219-220)
** (Лермонтов М. Ю. Поли. собр. соч., т. 1. М., Правда, 1963, с. 390)
Стихотворение "Есть речи - значенье..." до сих пор не сопоставлялось с рассматриваемым циклом, хотя в печати уже указывалось, что оно "прямым образом связано с речами женщины"*. Окончательный вариант был напечатан при жизни Лермонтова в январской книге "Отечественных записок" 1841 года. Имеется и его автограф, но он не датирован. Редакторы сочинений Лермонтова относят это стихотворение к началу 1840 года. Но нам кажется, что это стихотворение было известно Соллогубу еще раньше.
* (Пумпянский Л. Стиховая речь Лермонтова. - Литературное наследство, 1941, № 43-44, с. 399)
Обратимся к "Большому свету". "Тень Гамлета" или "рыцарь печального образа", как иронически называет Леонина автор, произносит по ходу действия длинную тираду, обращенную к блестящей графине Воротынской. Тут встречаются такие фразы: "Я не воображаю счастья выше того, как выбрать себе на туманном небе бытия одно отрадное светило. А это светило должно быть и пламень и свет: оно должно согревать душу и освещать трудный путь жизни..." Пафос лермонтовской поэзии снижен здесь до пошлости, но создается впечатление, что мы имеем дело с литературной пародией, где чувствуется отклик на образы "Демона" и лермонтовскую строфу: "Не встретит ответа // Средь шума мирского //Из пламя и света*// Рожденное слово..." В том, что Соллогуб знал "Демона", сомневаться не приходится: уже 29 октября 1838 года Лермонтов читал свою поэму у Карамзиных. Но со стихами "Из пламя и света // Рожденное слово" дело обстоит сложнее. В 1963 году И. Андрониковым была обнаружена одна из ранних редакций стихотворения "Есть речи - значенье...", датированная 4 сентября (1839 года), но пародируемых строк там еще нет. Между тем соллогубовская тирада помещена в первой части "Большого света", не позднее весны 1839 года. Правда, рукопись этой первой части до нас не дошла, при окончательной редакции повести автор мог внести в нее дополнения, высмеивающие пафос этого стихотворения. Как бы то ни было, хронологические рамки создания четырех стихотворений, ранее разделенные редакторами промежутком в три года (1837-1840), сдвигаются. А несомненная связь ранних вариантов стихотворения "Есть речи - значенье..." со стихотворением "Слышу ли голос твой..." и двумя другими позволяет предположить, что все четыре стихотворения - обращения к одной и той же девушке. Теперь мы можем думать, что Лермонтов встречался с ней в Петербурге в 1838- 1840 годах.
* (В обоих случаях курсив мой..- Э. Г.)
Из всех названных стихотворений Лермонтов напечатал только одно - очищенное от портретного сходства "Есть речи - значенье...", в котором любовное чувство сближено с состоянием творческого подъема поэта. Остальные три, обращенные к неизвестной девушке, были напечатаны после смерти Лермонтова. Из них - "Слышу ли голос твой..." и "Волшебные звуки" в сборниках "Вчера и сегодня". Издателем этих сборников был тот же В. А. Соллогуб. Если появление у автора "Большого света" автографа "Слышу ли голос твой..." легко прослеживается по эпистолярной литературе (по-видимому, Соллогуб получил его в 1844 году от Ю. Ф. Самарина)*, то нам ничего не известно об автографе стихотворения "Волшебные звуки". Эти стихи относятся к числу тех напечатанных Соллогубом произведений Лермонтова, рукописи которых не сохранились. Не принадлежал ли автограф или список "Волшебных звуков" самому Соллогубу? Мы знаем, что писатель собирал ненапечатанные стихи Лермонтова еще при его жизни. До нас дошел даже рассказ его жены Софьи Михайловны, в передаче П. А. Висковатова, о том, что Соллогуб как-то отнял у нее автограф стихотворения, поднесенного ей Лермонтовым. При этом Висковатов называет стихотворение "Нет, не тебя так пылко я люблю...", написанное в 1841 году. Но, так как по расположению чернового автографа этих стихов в альбоме Одоевского видно, что оно было написано уже после отъезда Лермонтова из Петербурга, это сообщение вызывает недоверие. Не посвящены ли Софье Михайловне другие стихи, а именно - "Волшебные звуки" и связанные с ними остальные стихотворения?
* (Самарин Ю. Ф. Соч., т. XII. М" 1911, с. 145. 2 октября 1844 г. Ю. Ф. Самарин писал К. С. Аксакову: "Кстати, о литературе: один мой знакомый доставил мне бумаги Лермонтова; я нашел в них три недоконченные повести и несколько неизвестных стихотворений. Я получил право отдать их в любой журнал; дай мне совет, и пока я не напишу тебе, об этом вторично, не говори никому". Надо думать, что речь идет об отрывках "Я хочу рассказать вам:..", "У графа В... был музыкальный вечер..." и "Кавказец", а также о стихотворениях, напечатанных, так же как и два первых отрывка, в сборниках "Вчера и сегодня", вышедших в свет в 1844 и 1845 гг. и издаваемых В. А. Соллогубом)
Тут нам многое разъяснит сопоставление записанного Внсковатовым эпизода со сценой из повести "Большой свет". Висковатов передает:
"Поэт, бывало, молча глядел на нее своими выразительными глазами, имевшими магнетическое влияние, так что невольно приходилось обращаться в ту сторону, откуда глядели они на вас. - Мой муж, говорила Софья Михайловна, очень не любил, когда Михаил Юрьевич смотрел так на меня, и однажды я сказала Лермонтову, когда он опять уставился на меня: - Вы знаете, Лермонтов, что мои муж не любит вашу манеру пристально всматриваться, зачем же вы доставляете мне эту неприятность?- Лермонтов ничего не ответил, встал и ушел. На другой день он принес мне стихи: "Нет, не тебя так пылко я люблю". Муж взял их у меня, и где они остались, я не знаю"*.
* (Висковатов, с. 326-327)
Подобную сцену мы находим в повести Соллогуба "Большой свет". Леонин "все более и более приковывался взором и сердцем к Надине, к ее безмятежному лику, к ее необдуманным движениям. Он долго глядел па нее, он долго любовался ею с какою-то восторженной грустью... II вдруг, по какому-то магнетическому сочувствию, взоры его встретились со взорами Щетинина, устремились вместе на Надину и обменялись взаимно кровавым вызовом, ярким пламенем соперничества и вражды".
Острота этой сцены (мы отвлекаемся от ее невысокого литературного достоинства) уже стала нам понятной, когда мы узнали, что в лице Надины Соллогуб нарисовал свою будущую невесту, Софью Михайловну Виельгорскую, а в лице князя Щетинина - самого себя. Соллогуб, как пишет его будущий тесть, добивался любви Виельгорской с 1838 года и при этом - что видно из повести - ревновал к Лермонтову. Это именно то время, когда было написано стихотворение "Слышу ли голос твой..." и другие стихи этого цикла. Наше предположение, что все они посвящены С. М. Виельгорской, подкрепляется.
В приведенной выдержке из повести Соллогуба обращает на себя внимание упоминание о "необдуманных движениях". Мы ощущаем здесь связь со стихами Лермонтова "Она поет - и звуки тают...":
...Идет ли - все ее движенья. Иль молвит слово - все черты Так полны чувства, выраженья, Так полны дивной простоты.?
В другой главе повести Соллогуб дает такой портрет семнадцатилетней На дины, то есть восемнадцатилетней Софьи Виельгорской:
"Она вполне обладала тремя главными женскими добродетелями: во-первых, наружностью, все более и более привлекающей, потом нравом скромным и как будто просящим опоры любимой, наконец, тою неопределительною щеголеватостью движений и существа, которая составляет одно из главных очарований женщины".
Здесь опять говорится о характерной черте Надины - об особой пластической выразительности ее красоты, совпадающей с обликом героини стихов Лермонтова.
В третьем месте Соллогуб называет Надину "полуземным существом", "как будто слетевшим с полотна Рафаэля, из толпы его ангелов". Однако мы не можем придавать решающего значения замеченному сходству, так как должны учитывать общее влияние литературных традиций 30-х годов на беллетристику Соллогуба (в частности, сравнение Надины с ангелом "Сикстинской мадонны" восходит к общему со стихами Лермонтова источнику - стихотворению Пушкина "Ее глаза"*). Поэтому обратимся к эпистолярной и мемуарной литературе.
*(
Какой задумчивый в них гений, И сколько детской простоты, И сколько томных выражений, И сколько неги и мечты!.. В них скромных граций торжество; Поднимет - ангел Рафаэля Потупит их с улыбкой Леля - Так созерцает божество.
)
Настоящая, живая С. М. Виельгорская обладала именно теми чертами, которые отражены в строках Лермонтова,- "как небеса, твой взор блистает эмалыо голубой", "небеса играют в ее божественных глазах". П. А. Плетнев, познакомившийся с С. М. Соллогуб сразу после ее замужества, пишет 8 декабря 1840 года: "Она вся была в белом, точно чистый ангел. В ее физиономии, речи и во всем, на что я обращал внимание, выражалось что-то совершенно небесное"*. "Она была растрогана до слез и благодарила меня, как только ангелы умеют благодарить - рукопожатием и взглядом", - пишет он через несколько дней. Кто-то другой сказал о жене Соллогуба, что "она всю жизнь провела на отлете в небо"**. Душа ее кажется как будто еще небеснее прежнего и ангельства в ней еще больше", - пишет Н. В1. Гоголь о С. М. Соллогуб 24 сентября 1844 года***. А познакомившись в 1847 году с ее незамужней сестрой, Анной Михайловной Виельгорской, П. А. Плетнев восклицает: "Это существо еще небеснее (если только уж возможно) и Софьи Михайловны"****. На дошедшем до нас позднем пастельном портрете С. М. Соллогуб-Виельгорской внешняя хрупкость сочетается с глубоким и чистым взглядом, лицо полно экспрессии, и на губах блуждает несколько странная улыбка*****.
* (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I. СПб, 1896, с. 164)
** (Соллогуб В. А. Воспоминания, с. 407-408)
*** (Гоголь Н. В. Поли. собр. соч., т. XII. М. - JI, Изд-во АН СССР, 1952, с. 345)
**** (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. III, с. 32)
***** (См. воспроизведение в "Воспоминаниях" Соллогуба (М. - Л, Academia, 1931))
Но в этих мимолетных замечаниях, так же как и в живописном портрете и описании Соллогуба, ничего не говорится об отличительной черте вдохновительницы стихов Лермонтова - об обаянии голоса. Эту особенность отметил у С. М. Соллогуб П. Д. Боборыкин, познакомившийся с нею, когда она была уже старше. "Первое время она казалась чопорной и даже странной,- пишет Боборыкин, - с особым тоном, жестами и голосом, немного на иностранный лад"*. Здесь впервые в мемуарной литературе мы находим указание на интонационное своеобразие речи С. М. Соллогуб-Виельгорской. Правда, до нас не дошло откликов на ее пенье (ср. "Она поет - и звуки тают..."). Но Соллогуб пишет в своих воспоминаниях, что его жена "понимала и ценила искусство и сама была одарена редкими музыкальными способностями"**. А на одной из афиш концерта в Патриотическом обществе имя графини С. Соллогуб названо в составе огромного хора (репетиция 6 марта, концерт 17 марта 1841 года)***.
* (Боборыкин П. Д. За полвека (Мои воспоминания). Ред. Козьмина Б. П. М. - Л, 1929, с. 117)
** (Соллогуб В. А. Воспоминания, с. 408)
*** (ЦГЛОР, ф. 632, on. 1, № 31, л. 43)
Теперь посмотрим еще один литературный портрет интересующей нас женщины. Он принадлежит перу Н. В. Гоголя и заключен в статье "Женщина в свете", входящей в состав "Выбранных мест из переписки с друзьями". Исследователи творчества великого писателя говорят нам, что в основу .этой публицистической статьи положены письма Гоголя к А. О. Смирновой и к С. М. Виельгорской-Соллогуб. Но автор рисует свою корреспондентку такими индивидуальными чертами, которые могут быть присущи только одной женщине, и мы можем утверждать, что это Соллогуб. Гоголь не устает восхищаться "родными звуками" ее голоса, "всяким простым словом" ее речи, которое "так и сияет". "Душе всякого, кто вас ни слушает, кажется, как будто бы она лепечет с ангелами о каком-то небесном младенчестве человека",- пишет Гоголь. Трудно отделаться от мысли, что автор намекает здесь на стихи Лермонтова. С поэтом он был знаком и встречался в Москве в 1840 году. Гоголь затрудняется "определить словом" "чистую прелесть" "какой-то особенной", одной С. Соллогуб "свойственной невинности". "Самый ваш голос, - пишет он, - от постоянного устремления вашей мысли лететь на помощь человеку, приобрел уже какие-то родные звуки всем, так что, если вы заговорите в сопровождении чистого взора вашего и этой улыбки, никогда не оставляющей уст ваших, которая одним только вам свойственна, то каждому кажется, будто бы заговорила с ним какая-то небесная родная сестра. Ваш голос стал всемогущ..."*
* (Гоголь Н. В. Поли. собр. соч., т. VIII, 1952, с. 788)
Описание Гоголя, отражающее особенный характер обаяния его корреспондентки, совершенно совпадает с общим смыслом и деталями стихов Лермонтова. И это приводит нас к окончательному убеждению, что вдохновительницей лирического цикла поэта была Софья Михайловна Виельгорская.
И вот перед нами три литературных портрета одного и того же лица. Но как они различны!
"Ангельская" красота С. Виельгорской-Соллогуб послужила автору книги "Выбранные места из переписки с друзьями" лишним поводом для усиления его проповеднического пафоса и мистической экзальтации. "На всех углах мира ждут и не дождутся ничего другого, как только тех родных звуков, того самого голоса, который у вас уже есть", - пишет он Виельгорской, налагая на нее особую миссию исправительницы нравов. Но всеобъемлющая христианская деятельность, к которой Гоголь призывает Виельгорскую, тут же замыкается им в тесные пределы великосветского круга. "Вам ли бояться жалких соблазнов света? Влетайте в него смело... - настойчиво повторяет Гоголь. - Входите в него... заставьте его говорить о том, о чем вы говорите... вносите в свет те же самые простодушные ваши рассказы, которые так говорливо у вас изливаются, когда вы бываете в кругу домашних и близких вам людей...". "Небесный" образ Виельгорской служит Гоголю средством для обоснования реакционной идеи о незыблемости устоев крепостнического общества в России: "Поверьте, что бог недаром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит, - проповедует он. - ...Не убегайте же света, среди которого вам назначено быть: не спорьте с провидением".
Гораздо грубее высказал ту же идею и по тому же поводу В. Соллогуб в своей повести "Большой свет". Так же как и для Гоголя, образ "полуземного существа" послужил Соллогубу орудием для апологии великосветского общества. "Ангел, слетевший с полотна Рафаэля", произносит в его повести настоящую оправдательную формулу света. Во второй части, в сцене на балу, где не без остроумия пародированы нападки Лермонтова на низость и лицемерие великосветского общества, "мудрость" Надины противопоставляется словам Леонина.
"- Да жарко здесь очень! - жалуется она.
Да, - сказал Леонин: - здесь жарко, здесь душно. В свете всегда душно!.. - Все те же мужчины, все те же женщины. Мужчины - такие низкие, женщины такие нарумяненные...
Надина взглянула на него с удивлением.
Да нам какое до того дело! Если женщины румянятся, тем хуже для них; если мужчины низки, тем для них постыднее.
"Правда", - подумал Леонин.
И почему, - продолжала Надина, - искать в людях одно дурное? В обществе, я уверена, пороки общие, но зато достоинства у каждого человека отдельны и принадлежат ему собственно. Их-то, кажется, должно отыскивать, а не упрекать людей в том, что они живут вместе.
Неопытная девушка объяснила в нескольких словах молодому франту всю тайну большого света".
Тайна большого света, которую не постиг Лермонтов, но постиг Соллогуб, имела ясный политический смысл. Легкая насмешка над слабостями русских аристократов допустима и даже изящна, но зачем же критиковать все общество в целом? Таков был ответ Соллогуба Лермонтову.
Сусальный образ Надины послужил Соллогубу орудием борьбы с Лермонтовым за Софью Виельгорскую. А для самого Лермонтова образ той же девушки был олицетворением прекрасной женственности. Стихи, посвященные ей, отрешены от быта и представляют собой самое яркое выражение мироощущения романтика.
3
Красота, музыкальность, выразительность движений, манера говорить и самый звук голоса средней дочери М. Ю. Виельгорского производили сильное впечатление на многих. "Мне признавались наиразвратнейшие из нашей молодежи, - пишет Н. В. Гоголь, - что пе.ред вами ничто дурное не приходило им в голову, что они не отваживаются сказать в вашем присутствии не только двусмысленного слова, которым потчевают других избранниц, но даже просто никакого слова, чувствуя, что все будет перед вами как-то грубо и отзовется чем-то ухарским и неприличным". Немота и робость в присутствии прекрасной девушки отражены и в стихах Лермонтова "Слышу ли голос твой...". Там есть зачеркнутая строчка:
Мне больно, холодно.
Далее следует сохранившееся четверостишие:
...И как-то весело, И хочется плакать, И так на шею бы Тебе я кинулся.
Попутно отметим еще раз родство этого стихотворения с обоими вариантами стихотворения "Есть речи - значенье...": здесь та же стремительность движения. Ср.:
И брошусь из битвы Ему я навстречу.
Или:
...Их кратким приветом,
Едва он домчится.
("Волшебные звуки")
Приведенная строфа из стихотворения "Слышу ли голос твой..." раскрывает нам характер увлечения Лермонтова Виельгорской. Это не любовь и не влюбленность, а высшее напряжение всех духовных сил в ее присутствии. В строках "Мне больно, холодно", "И как-то весело,// И хочется плакать" отражены те черты, которыми Лермонтов обычно описывает свое состояние поэтического вдохновения. Вспомним строки из стихотворения "Журналист, Читатель и Писатель":
Бывают тягостные ночи: Без сна, горят и плачут очи, На сердце - жадная тоска; Дрожа, холодная рука Подушку жаркую объемлет; Невольный страх власы подъемлет; Болезненный, безумный крик Из груди рвется - и язык Лепечет громко без сознанья Давно забытые названья; Давно забытые черты В сияньи прежней красоты Рисует память своевольно: В очах любовь, в устах обман - И веришь снова им невольно, И как-то весело и больно Тревожить язвы старых ран... Тогда пишу.
Подобное же описание встречаем мы и в последней неоконченной повести Лермонтова, прямо посвященной проблеме романтизма в искусстве:
"...вдруг на дворе заиграла шарманка; она играла какой-то старинный немецкий вальс; Лугин слушал, слушал- ему стало ужасно грустно. Он начал ходить по комнате; небывалое беспокойство им овладело; ему хотелось плакать, хотелось смеяться..."
Мы не случайно привлекли к нашему изложению повесть Лермонтова "Штосс": в ней нашла свое завершение тема "женщины-ангела", пронизывающая очерченный выше лирический цикл, а в прозе представленная как проблема романтической любви. Платоническая любовь- органическая черта мироощущения романтика - занимает в повести Лермонтова не менее важное место, чем эстетические проблемы. В этом отношении он предвосхитил Герцена и Белинского, выступивших вскоре после смерти Лермонтова со своими знаменитыми статьями о романтизме. Рассматривая основную проблему эпохи в философском и историко-литературном плане, оба писателя не могли миновать и психологической ее стороны, со всей серьезностью останавливаясь на проблеме романтической любви. На единство взглядов Лермонтова с воззрениями передовых русских мыслителей указывает в исследовании, посвященном повести "Штосс", Э. Найдич. У нас нет нужды возвращаться к этому вопросу во всем его объеме*. Для нашей темы важна автобиографическая основа повести. Родоначальник русского психологического романа, Лермонтов подвергает самый процесс зарождения романтической любви трезвому анализу, привлекая для этого собственный душевный опыт. Он сознательно рисует образ героя автобиографическими чертами. На это указывает и внешнее сходство Лугина с самим Лермонтовым, и признания художника, сделанные с той честной наготой, которая доступна только лирическому поэту, достигшему вершин своего мастерства.
* (См. комментарий Э. Найдича к этой повести в Поли. собр. соч., т. 4 (М. -Л, ОГИЗ, 1948, с. 469-470), в Соч. в 6-ти томах, т. VI (М. - Л, Изд-во АН СССР, 1957, с. 670-671) и в Собр. соч. в 4-х томах, т. 4 (М" Изд-во АН СССР, 1959, с. 658-660). Проблеме романтизма и фантастического в "Штоссе" посвящена насыщенная обширным материалом интересная статья В. Э. Вацуро "Последняя повесть Лермонтова". Автор приходит к выводу, что трактовка всей повести как антиромантической встречает затруднения, почти непреодолимые (см. кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л, Наука, 1979, с. 249))
Лугин и сам "не мог забыться до полной, безотчетной любви", сомневаясь в своей внешней привлекательности, и подозрительно-недоверчиво относился к "явной благосклонности" к нему женщин. В порыве самобичевания Лугин признается, что он и не заслуживал истинной любви:
"...он бросился на постель и заплакал: ему представилось все его прошедшее, он вспомнил, как часто бывал обманут, как часто делал зло именно тем, которых любил, какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видел слезы, вызванные им из глаз, ныне закрытых навеки, - и он с ужасом заметил и признался, что он недостоин был любви безотчетной и истинной,- и ему стало так больно! так тяжело!"
В этом прозаическом отрывке мы находим прямую перекличку со стихотворением 1841 года "Нет, не тебя так пылко я люблю...": "уста давно немые", "огонь угаснувших очей" - в стихах, "глаза, ныне закрытые навеки"- в прозе. Речь идет, очевидно, о какой-то неизвестной нам юношеской встрече Лермонтова с рано умершей девушкой. Память о ней всплывает в сознании поэта рядом с образом Вареньки Лопухиной - его погубленной любви. Вареньку он вспоминал, когда встретился в Пятигорске с Екатериной Быховец, хотя, в сущности, у юной "креолки", как ее называли, не было никакого внешнего сходства с блондинкой Лопухиной, так же как аттический овал лица высоколобой Вареньки нисколько не походил на легкий очерк лица голубоглазой Софьи Виельгорской. Сходство было в душевной чистоте и естественной грации всех трех девушек. В поэзии Лермонтова они сливались в один романтический образ одухотворенной женственности, проходящий сквозь всю его лирику, начиная с 1832 года (год переезда в Петербург и разлуки с Варварой Лопухиной): "Она не гордой красотою...", образ Тамары в "Демоне", стихотворение "Она поет - и звуки тают..."
Рисуя в "Тарантасе" образ своей жены (в главе "Сон"), Соллогуб пересказывает в прозе перг.ое стихотворение Лермонтова 1832 года (по-видимому, обращенное к В. Лопухиной). Сравним:
Она не гордой красотою Прельщает юношей живых, Она не водит за собою Толпу вздыхателей немых... .......................... Однако все ее движенья, Улыбки, речи и черты Так полны жизни, вдохновенья, Так полны чудной простоты. Но голос душу проникает, Как вспоминанье лучших дней, И сердце любит и страдает, Почти стыдясь любви своей.
"Она была хороша не той бурной сверкающей красотой, которая тревожит страстные сны юношей, но в целом существе ее было что-то высоко-безмятежное, поэтически-спокойное. На лице, сияющем нежностью, всякое впечатление ярко обозначалось, как на чистом зеркале. Душа выглядывала из очей, а сердце говорило из уст. В полудетских ее чертах выражалось... доброжелательное радушие... В каждом ее движении было очаровательное согласие..."
Соллогуб, очевидно, знал это стихотворение от самого Лермонтова - оно было напечатано только в 1876 году, а "Тарантас" был написан в 1840 году.
Писатель был посвящен и во всю историю печального романа Лермонтова с Варенькой Лопухиной. Основной мотив этих отношений - тема погибшей молодости и утраченного счастья - схвачен Соллогубом в описании чувства Леонина к Надине. Уносясь в кибитке из Петербурга на Кавказ, Леонин погружен в размышления: "Он думал, что ни за что схоронил заживо свою молодость; он думал, что в Петербурге осталась, и не для него, та, которая рождена была для него, та, которую он сам рожден был любить..." Далее Соллогуб пытается провести психологический анализ любви героя "Большого света" - прием, на который он еще не отваживался ни в одной из своих предыдущих повестей: "Чем более он (Леонин) удалялся, тем более им овладевала мысль о Надине. Чувство, которое в нем рождалось к ней, не было мелочное, честолюбивое и взволнованное, как любовь его к графине, не было жеманное, как отношение его к Армидиной: оно было тихое, смешанное с глубокой грустью, с сознанием утраты невозвратимой, и в то же время в нем была какая-то мучительная отрада".
Как видим, повесть "Большой свет" пропитана мотивами и образами лирики Лермонтова, часто неизвестной еще в то время в печати. Больше того - она указывает на близкое знакомство ее автора с фактами юношеской биографии поэта. В описании "жеманных отношений" Леонина с "коломенской королевой" Армидиной можно уловить отзвук истории Лермонтова с Сушковой (1835 год), не принадлежащей к самому высшему кругу петербургского общества, а "честолюбивое и взволнованное" чувство к блестящей львице Воротынской - недобрый намек на успех Лермонтова у великосветских модных красавиц. Противопоставление этим двум романтическим историям Леонина его чувства к Надине повторяет психологический рисунок душевной жизни самого Лермонтова.
Так в поверхностной, но актуальной сатире на ложный романтизм обыкновенного петербургского молодого человека Соллогуб опошлил поэтический и личный опыт Лермонтова.
Анализ сердечных увлечений Леонина сильно занимает автора "Большого света", вопреки его позднейшему заявлению, что в этой повести он изобразил только "светское значение Лермонтова". В иных местах Соллогуб переходит на явно глумящийся тон торжествующего соперника, в других - пытается быть беспристрастным. Но и в тех и в других случаях автор приходит к одному и тому же выводу: Леонин не умел по-настоящему любить. Эта мысль проходит через всю пародийную повесть Соллогуба как лейтмотив. "Но был ли он влюблен точно? - спрашивает автор, описывая роман Леонина с Армидиной. - Должен откровенно сознаться, что нет. Чувство его было какое-то тревожное, полуребяческое, девятнадцатилетнее, которое в каждой хорошенькой женщине ищет осуществления своей мечты; к тому же вкрадывалось и лестное очарование удовлетворенного самолюбия". Не более серьезным оказалось увлечение Леонина графиней Воротынской: к восхищению ее красотой у него прибавлялось "чувство светской суеты", которое "начало мутить его воображение". А когда он обратил внимание на Надину, ему пришлось уступить дорогу Щетинину - именно потому, что чувство его не было полноценным. Эта мысль выражена в словах резонера Сафьева, друга Леонина и секунданта на его расстроившейся дуэли со Щетининым:
"- Что касается до свадьбы твоей, жаль, что она не состоится. Твоя Надина, право, кажется, препорядочная...
Я люблю ее! - воскликнул с отчаянием Леонин: - я чувствую, что я всегда ее буду любить.
Ну, душа моя, жаль мне тебя, а дело это конченное! Она будет любить не тебя, которого она не знает, а Щетинина, за которого она боится, и потом, душа моя, Щетинин князь, богат, хорош, человек светский и влюбленный, а ты что?.. Поезжай себе: ты ни для графини, пи для Щетинина, ни для повестей светских, ни для чего более не нужен... Поезжай на Кавказ..."
Несмотря на признание Леонина в своей любви к Надине, Сафьев противопоставляет ему "влюбленного" Щетинина. В этих словах слышится недоверие к способности Леонина глубоко и просто чувствовать. Очевидно, Соллогуб в своей пародии бесстыдно повторил признания самого Лермонтова, не раз слышанные в откровенных с ним беседах. Откуда бы в противном случае попала в повесть реплика Сафьева, в которой Леонин охарактеризован чертой, совсем не подготовленной предыдущим развитием сюжета: "Жаль мне его, добрый малый, но глуп был сердцем"? Для того чтобы убедиться, что этот психологический штрих был подсказан Соллогубу самим поэтом, достаточно обратиться к первоисточнику, то есть к творчеству Лермонтова. "...Есть люди, у которых опытность ума не действует на сердце, и Лугин был из числа этих несчастных и поэтических созданий",- читаем в "Штоссе" - трагической повести, где Лермонтов сам сводит последние счеты с романтизмом.
Мнительные и рассудочные отношения с женщинами, порождающие вечную неутоленность сердца, представляют собой, по Лермонтову, благодарную почву для развития "вредной" склонности к романтической любви. ".. .Подобное расположение души извиняет достаточно фантастическую любовь к воздушному идеалу...", - заключает автор свой мастерской психологический анализ "донжуанской" жизни художника. Индивидуальные особенности характера Лугина, задуманного как автопортрет, Лермонтов осмысляет как типовое явление эпохи. Проблема романтизма освещена в повести в разных аспектах - в философском, эстетическом, литературном, психологическом. В литературном отношении "Штосс" противостоит повестям Гофмана и, главным образом, поэзии Жуковского, которую Лермонтов уже не первый раз тонко пародирует в своей прозе.
Вообще вся повесть, как это свойственно творческой манере Лермонтова, пропитана элементами литературной пародии. Однако нельзя ограничиться, как это делает Э. Найдич, определением этого произведения только как пародии*. На это указывает эволюция центрального образа "Штосса" - ускользающего образа воздушной красавицы. Вначале он появляется как абстрактный, и потому "неприятный", идеал "женщины-ангела". Затем-как естественное и благотворное для юноши прекрасное видение: "...то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях и плачем, и молим, и радуемся бог знает чему..." (Лермонтов иронизирует здесь над своими же ранними стихами- обычный для него прием: достаточно вспомнить "Сказку для детей", где дан сниженный образ "Демона".)
* (См. примеч. 34 на с. 334)
Образ воздушной красавицы претерпевает дальнейшие изменения. Он раздваивается. С одной стороны, Лермонтов рисует его пародийно, а с другой стороны, за чертами абстрактной красавицы проступают иные черты, полные живой жизни. Лермонтов характеризует это видение рядом антитез: "Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное... то не был также пустой и ложный призрак... потому что, - объясняет автор,- в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда..." - словом, Лермонтов наделяет возникший в тумане образ всеми теми чувствами, без которых человеческая жизнь вообще невозможна. По мере нарастания напряжения игры с привидением лицо красавицы все больше и больше одушевляется истинно человеческими страстями: "...она, казалось, принимала трепетное участие в игре; казалось, она ждала с нетерпением минуты, когда освободится от ига несносного старика..." Каждый новый проигрыш Лугина повергал ее в отчаяние: на него смотрели "эти страстные, глубокие глаза, которые, казалось, говорили: "смелее, не упадай духом, подожди, я буду твоею, во что бы то ни стало! я тебя люблю"... и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тенью ее изменчивые черты". Невозможно в этом энергичном, сосредоточенном описании услышать хоть какие-нибудь отзвуки иронии!
Прекрасная и страдающая пленница, за "взгляд и улыбку" которой Лугин "готов был отдать все на свете", постепенно преображается под пером Лермонтова в живой портрет. Он нам знаком. Это - все та же красавица, чьи взгляд и речи вызывали у поэта волнение, переходящее в высокое эстетическое переживание. Но в стихотворном цикле она была статична по отношению к лирическому герою - "краткий привет", голос, взгляд и больше ничего... А теперь она в движении, полном драматизма,- в образе пленницы, рвущейся к своему освободителю. Словом, это - Софья Михайловна Виельгорская до и после замужества.
Обратимся к реалиям.
4
"Штосс" открывается фразой: "У графа В... был музыкальный вечер". В нескольких следующих строках Лермонтов саркастически описал музыкальный салон Виельгорских. Он не восхищается его высоким эстетическим значением и говорит о придворном художественном салоне с холодной иронией: "Первые артисты столицы платили своим искусством за честь аристократического приема..." Показан не многолюдный концерт с присутствием двора, а один из камерных вечеров: "...все шло своим чередом; было ни скучно, ни весело". Упоминается "заезжая" певица, и таким эпитетом Лермонтов намекает на низкопоклонство петербургского "большого света" перед иностранными гастролерами. В этом отношении он был единодушен с А. О. Смирновой.
Указывалось, что под именем Минской в повести изображена Смирнова*. Внешнее портретное сходство несомненно. Минская - придворная дама, черноволосая красавица, на бледном лице которой "сияет печать мысли". На музыкальном вечере Минская зевает и скучает. "Впрочем, мы тоже очень любим музыку, от скуки чего не сделаешь", - пишет Смирнова в одном из писем. "У вас все высокие интересы, - сообщала она П. А. Вяземскому за границу 14 марта 1839 года, - а мы пока с ума сходим по Тальберге, за него только что не дерутся дамы фешенебельные, особенно полюбила музыку графиня Воронцова, ездят к нему по утрам, зовут обедать, на все вечера, словом Thalberg est l'homme a la mode**, просто все унижаются даже до подлости, ведь это только может быть в Петербурге"***.
* (Александров Н. А. О. Смирнова. Об ее жизни и характере. - Историко-литературный сборник, посвященный В. И. Срезневскому. Л, 1924, с. 314)
** (Тальберг у нас в моде (фр.))
*** (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 2761, л. 25об)
В числе гостей Лермонтов называет "одного гвардейского офицера". Исследователи правильно замечают, что здесь подразумевается сам Лермонтов, - традиционный прием светской повести, которым пользовался еще Пуш кин ("Роман в письмах", "Гости съезжались на дачу..."). Как мы помним, мы встретились с этим приемом и у Соллогуба: вымышленные герои называют имена своих прототипов ("стихи Л(ермонтова) и повести С(оллогу)ба"). Теперь мы встречаем Лугина и Лермонтова в одном отрывке.
Фамилия "Минская" и внешняя обстановка первого разговора заимствованы у Пушкина ("Гости съезжались на дачу..."), но, следуя своему обыкновению, Лермонтов вкладывает в эту экспозицию свое содержание.
Известно, что Софья Михайловна Соллогуб после замужества особенно сближается с А. О. Смирновой. Вскоре они составят дружественный союз с Гоголем (имевший на него пагубное влияние). Первоначально, называя музыкальный салон, Лермонтов написал вместо начальной буквы "В" букву "С". Была сверху приписана и дата: "17 сентября", дополненная в следующем верхнем слое более точным: "1839 года". 17 сентября по старому стилю - день именин Софьи. Вспомним "Варварин день", отмеченный в записях юноши Лермонтова, посвященных Вареньке Лопухиной, или "26 августа" - день ангела Натальи в драме "Странный человек", где описаны отношения поэта с Натальей Ивановой: именинные дни были для Лермонтова небезразличны.
В окончательном варианте Лермонтов останавливается на В(иельгорском) и снимает все даты. Но это не имеет существенного значения, так как все равно ясно, что действие происходит в доме Виельгорских на Михайловской площади, где В. А. Соллогуб поселился после своей свадьбы 13 ноября 1840 года.
У Соллогубов были отдельные приемы па своей половине и вечера, на которых была заведена занимавшая всех друзей Лермонтова литературная игра. День приемов- среда, или, как тогда говорили, "середа"*. Лугин в "Штоссе" с удивлением находит под изображением незнакомца вместо фамилии слово "середа". Оживший портрет назначает для игры только один день "середу". Художник с яростью преодолевает это препятствие. "А! в середу! - вскрикнул в бешенстве Лугин, - так нет же! - не хочу в середу! - завтра или никогда! слышишь ли?" Таинственная символика повести, как видим, объясняется событиями действительной жизни, волновавшими Лермонтова.
* (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I, с. 169. "По уходе многих, - пишет Плетнев И декабря 1840 г. о вечере у Соллогуба, - толковали об устройстве его середы, т. е. нужно ли допускать дам, подавать ли ужин, заниматься ли музыкой и кем ограничить общество? Хотят каждый раз приносить что-нибудь прочитывать вновь написанное, например: первый прочтет письмо (главу из романа), другой в следующий раз ответ на него - и так всякое лицо примет на себя роль в этом романе". Об этой литературной игре упоминает и Веневитинов в письме к Комаровским (ГБЛ) от 13 января 1841 г)
"Странная несовременная наружность" квартиры, где происходила игра, самый образ пленницы, которую старик приводил к Лугину из дальней комнаты, находят соответствие в образе жизни "молодой" Соллогуб. "Софья Михайловна и не видывала большого света,- писал П. А. Плетнев 27 декабря 1840 года, - и живет теперь с мужем, как живали в старинных романах добрые героини"*.
* (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I, с. 185)
Вспомним прелюдию к обручению Соллогуба с Виельгорской- его повесть. Там он предсказал развязку своего соперничества с Лермонтовым: Леонина отправляют на Кавказ... Повесть Соллогуба вышла в свет 14 марта. Помолвка, задуманная при дворе великой княгини Марии Николаевны и одобренная царем, была объявлена 19 апреля 1840 года. В этот день Лермонтов расписался в ознакомлении с "высочайшей сентенцией" о переводе его на Кавказ, в Тенгинский пехотный полк. Вспомним неожиданный характер этой помолвки. Приходится признать, что Виельгорская, которая до тех пор не любила Соллогуба, путем искусных интриг была выдана за него царской семьей (не в награду ли за пародийную повесть). Игра была нечистой. Не отсюда ли образ шулера, замышленный Лермонтовым для "Штосса"? В первоначальном плане повести записано: "Шулер: старик проиграл дочь, чтобы..." Этот план набросан Лермонтовым, когда он в последний раз приехал в Петербург. Виельгорскую он застал уже замужем.
Образ отца, проигравшего дочь, постепенно преображается в образ шулера-старика - в фантастическую фигуру. Лермонтов снова и снова возвращается к центральному эпизоду повести, чтобы найти в новом варианте лучшее выражение волновавшего его образа. В "альбоме Одоевского" он записывает:
"Да кто же ты, ради бога? - чтос? отвечал старичок, примаргивая одним глазом. - Штос! - повторил в ужасе Лугин".
Странный образ старика-привидения с его каламбурной фамилией вызывает у Лугина ужас, а в петербургском варианте- испуг:
"- Хорошо... я с вами буду играть - я принимаю вызов - я не боюсь - только с условием: я должен знать, с кем играю! Как ваша фамилия?
Старичок улыбнулся.
- Я иначе не играю, - проговорил Лугин, - меж тем дрожащая рука его вытаскивала из колоды очередную карту.
Что-с?- проговорил неизвестный, насмешливо улыбаясь.
Штос? - кто? - У Лугина руки опустились: он испугался".
Современные советские исследователи видят в этом каламбуре доказательство иронического отношения автора к Лугину*. Но напряженность этого диалога противоречит такому толкованию. Каламбурная фамилия Штосса - центральный сюжетный стержень повести. Вспомним: таинственный голос подсказывает Лугину адрес доселе ему незнакомого титулярного советника Штосса. Возникающий в пустынном переулке нежилой дом действительно принадлежит Штоссу. Появившееся привидение пугает Лугина зловещим каламбуром: "Не угодно ли, я вам промечу штосс?" Полный напряженной тревоги стиль повести не позволяет видеть в этом шутку.
* (Ираклий Андроников, ссылаясь на Э. Найдича, пишет в комментарии к повести: "Лермонтов относится к своему герою с глубокой иронией. Это подчеркнуто игрой слов, имеющих такое важное значение для Лугина: фамилией домовладельца ("Штосс"), игрой ("штосс") и репликой старика ("что-с?"). "Штосс" противостоит фантастике Гофмана" (Лермонтов М. Ю. Полн. собр. соч., т. 4. М., Правда, 1953, с. 465). Такое же толкование (восходящее к комментарию Э. Найдича) мы встречаем в исследовании Е. Слащева "О поздней прозе М. Ю. Лермонтова" (Ученые записки Киргизского государственного университета, филологический факультет, вып. 5. Славянский сборник, № 1. Фрунзе, 1958, с. 136). "В самый разговор двух партнеров, - пишет Слащев, - вставлен шутливый каламбур, имеющий, впрочем, отношение не столько к персонажам повести, сколько к ее восприятию читателями или слушателями - вспомним, кому была прочтена Лермонтовым эта повесть". Слащев имеет в виду рассказ Е. П. Ростопчиной с мистификации Лермонтова, пригласившего на чтение к Карамзиным избранное общество для слушания его нового романа и ограничившегося отрывком, условно называемым нами "Штосс". "Как видно,- продолжает Слащев, - Лермонтову было очень желательно отметить игру слов... Каламбур, определивший название повести, действительно звучит насмешливым вопросом, обращенным непосредственно к читателю по поводу всей повести")
Да и сам каламбур не был случайной игрой слов, а обязан был своим происхождением событию, о котором говорил весь город. Оказывается, в "Штоссе" мы встречаемся с "цитатой-сигналом", в творческой системе Лермонтова дающей обычно ключ к уразумению смысла его художественных образов.
25 декабря 1839 года А. В. Никитенко записывает в своем дневнике: "Институтка, приятельница моей жены, умненькая, хорошенькая Е. И. Ш., до сих пор очень бедная и жившая в гувернантках, вдруг сделалась обладательницей полумиллиона. Она выиграла в польскую лотерею 900 000 злотых. Вчера она была у нас; богатство пока не изменило ее: она но-прежнему проста, мила, точно не подозревает, каким могуществом вдруг подарила ее судьба. Между тем, весь город толкует о ней. Императрица пожелала видеть ее"*.
* (Никитенко А. В. Дневники. В 3-х томах, т. I. М., Гослитиздат, 1955, с. 216)
Об этом же событии писал родным 28 декабря 1839 года П. А. Вяземский:
"Убили мы бобра с Родольфом Валуевым; взяли с ним пополам лотерейный польский билет за сто рублей, а сейчас приходит меня поздравить с выигрышем 30-ти рублей на брата. И другие мои сто рублей пропали, и каналья фортуна тянула меня до конца... А большой выигрыш в 400 000 рублей здесь взят. Выиграла его какая-то бедная девица Штосс, а я-то что-с? - спрашиваю я у судьбы, что я тебе, в дураки, что ли, достался?"*
* (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 116об. - 117)
Каламбур Вяземского, соотносивший необычайный выигрыш девицы Штосс с образом судьбы, объясняет сцену отчаянной игры Лугина с Штоссом, описанную как смертельная схватка с судьбою. Образ ее неуловим, как все в императорском Петербурге, где решающую роль играла не открытая борьба, а тайные интриги, где поэт столкнулся с тупой, но уклоняющейся силой Николая I - "да кто же ты...", "...я должен знать, с кем играю!".
В самом происшествии, в котором разоренные аристократы завидовали бедной гувернантке, уже заложен зародыш сюжета повести, где действие начинается в великосветском салоне и уходит куда-то в "глухие части города", к Кокушкину мосту, в дом титулярного советника.
Так события действительной жизни, попадая на подготовленную почву строя идей поэта, преображались его творческой фантазией в сложные художественные образы.
В злободневности и в автобиографической основе - такой запутанной и трудной - заключен секрет обаяния последней прозы Лермонтова, завлекающей читателя своим трагическим отблеском и скрытым ритмом бешеного азарта.
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://m-y-lermontov.ru/ "M-Y-Lermontov.ru: Михаил Юрьевич Лермонтов"