
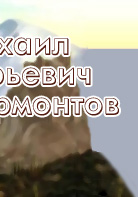
Библиотека
Энциклопедия
Ссылки
О проекте

Лермонтов и двор
1
Отзыв "высочайшего" цензора Пушкина о "Герое нашего времени" поражает тем, что он содержится не в официальной бумаге, а в частной переписке царя с царицей. Уже одно это показывает, как изменилось положение поэта в столице императорской России. При дворе стали уделять больше внимания литературе.
После знаменитого письма В. А. Жуковского к отцу Пушкина, после усилий некоторых друзей поэта представить его верноподданным и смиренным христианином, отношение двора к покойному резко изменилось. Бросились к его сочинениям. Этот перелом наглядно иллюстрируется письмом А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому, посланным из Киссингена 4 августа 1837 года и описывающим встречи с великой княгиней Марией Павловной. "Я узнал (между нами), - пишет он, - что великая княгиня Мария Павловна была очень предубеждена против Пушкина и, следовательно, сначала не очень жалела о нем, но, кажется, письмо Жуковского к отцу и мои разговоры о нем, особенно анекдот о стихах после холеры*, переменили мнение. Теперь она и сочинения его и Современник выписывает"**. Такие же свидетельства имеются в переписке В. А. Жуковского и П. А. Плетнева - воспитателей царских детей.
* (Речь идет о стихотворении Пушкина "Герой", сопоставляемом современниками с рассказами о бесстрашном поведении Николая I в Москве во время холеры)
** (Литературное наследство, 1952, № 58, с. 148)
"Я получила новое издание Пушкина, - пишет великая княжна Мария Николаевна 22 июня 1838 года В. А. Жуковскому, - только три тома. Я с наслаждением его читаю; нет, наслаждение не слово avec recueillement! avec onction!* нет. и то не то! да вы понимаете!"**. Как видим, молоденькая Мария Николаевна "примиряется" с Пушкиным, так же как и Мария Павловна Веймарская.
* (С самоуглублением! с благоговением! (фр.))
** (Русский архив, 1895, N°. 8, с. 429)
Планомерную пропаганду творчества великого поэта взял на себя "русский чтец во дворце" П. А. Плетнев. "Вчера, - пишет он наследнику 26 мая 1837 года, - во время урока у Марии Николаевны изволила присутствовать императрица. Ее величеству угодно было приказать мне прочесть несколько из "Цыган" Пушкина". 28 мая он сообщает, что "у в. к. Марии Николаевны мы говорили много о Пушкине и читали из него. Государыня изволила читать наизусть некоторые места из поэмы "Цыганы". В Петергофе "государыня изволила спросить меня, привез ли я "Полтаву", которую теперь и читает", - отмечает он в следующем письме к наследнику 4 июня 1837 года*.
* (ЦГАОР, ф. 678, on. 1, № 831, л. боб., 7, 7об)
Так русская императрица стала впервые знакомиться с теми поэмами Пушкина, звуки которых, как вспоминал Белинский, еще за десять лет до того доносились из каждого растворенного окна в уездном городе Чембаре*.
* (Белинский В. Г. Поли. собр. соч., т. I. М., Изд-во АН СССР, 1953, с. 72)
Когда после замужества Марии Николаевны (июль 1839 года) ее занятия русским языком прекратились, императрица продолжала посещать уроки своей второй дочери, Ольги. Плетнев читает лирику Пушкина, "Дубровского", "Капитанскую дочку", "Медного всадника", "Езерского" - "с разными присказками". Высокие слушательницы, уподобляясь Юлию Цезарю, исполняют одновременно два или три дела. Внимая чтению, они рисуют или, болтая, позируют художникам, а в одно подобное литературное утро царице даже приносят новорожденную внучку.
Примерно в то же время императрица заинтересовалась автором "Смерти поэта". В начале января 1839 года В. А. Соллогуб писал В. Ф. Одоевскому: "Императрица просила стихи Лермонтова, которые Вы взяли у меня, чтобы списать, и которые, что более соответствует моему, чем Вашему обычаю, Вы мне не вернули"*.
* (Заборова Р. Б. Лермонтов и Соллогуб. - Труды Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, т. V (8). Л., 1958, с. 191)
По какому поводу беседовала Александра Федоровна с Соллогубом о стихах Лермонтова, остается еще неясным. Но мы располагаем ее ненапечатанными дневником и перепиской. Имя Соллогуба упоминается императрицей в эти же дни, но в другой связи. "На днях я была на маскированном балу у Энгельгардта, - пишет она сыну- наследнику 12 января 1839 года. - Я очень веселилась, интригуя Головина*, молодого Салагуба, Апони и т. д. и т. д. Было переполнено и в самом деле очень весело"**. Эта же маскарадная ночь описана в дневнике подробнее: "9 января... к Сесиль (Фредерике), там нашли Вишнякову, Труб(ецкую), Катр(ин). После приятного ужина в четырехместной карете в маскарад. Как интересно! Салагуб, Головин, Апони, - объяснялась с Перовским, судорога в ноге прошла..."*** Возможно, что именно этот маскарад и дал повод для разговора о Лермонтове с одним из его друзей. Это тем более вероятно, что, описывая 3 февраля свой следующий маскарадный выезд, императрица упоминает друзей поэта - А. А. Столыпина-Монго, А. П. Шувалова, А. Карамзина.
* (Головин - престарелый царедворец, поэтому его фамилию императрица иронически подчеркивает)
** (ЦГАОР, ф. 678, оп. 1, № 736, л. 162об. Перевод с фр)
*** (Там же, ф. 672, oп. 1, № 415. Перевод с нем)
"Вечером Софи Б(обринская), Перовский в кабинете. После 11-ти в карете С(офи) под маской и (в костюме) летучей мыши с Лили, Трубецкой в маскарад. Атаковала Монго и Шувалова, Карамзин, Трубецкой...", а 8 февраля отмечен разговор о Лермонтове с В. А. Перовским в Петергофе:
февраля: "...Читала с Катр(ин) до 1/2 9. Н(икс) лихорадит. .. Перовский (нрзб.) о Демоне".
февраля: "Н(икс) нездоров, я велела пригласить Арендта, вместе читали, завтракать к Шамбо, назад в ландо одни. Н(икса) мучил сплин. Мишель обедал у меня, Н(икс) нет. Вечером чтение Перовского"*.
* (Там же, № 416, л. 1а, 1аоб., 2об. Перевод с нем)
Смысл этих лаконичных заметок расшифровывается в записке императрицы к Бобринской, очевидно написанной 10 февраля 1839 года:
"Вчера я завтракала у Шамбо, сегодня мы отправились в церковь, сани играли большую роль, вечером - русская поэма Лермонтова Демон в чтении Перовского, что придавало еще большее очарование этой поэзии.- Я люблю его голос, всегда немного взволнованный и как бы запинающийся от чувства.
Об этом у нас был разговор в вашей карете в маскарадную ночь, вы знаете"*.
* (Там же, ф. 851, oп. 1, № 16, л. ПОоб. Перевод с фр)
Таким образом, чтение "Демона" во дворце было связано с маскарадными выездами императрицы, где она забавлялась, окруженная приятелями Лермонтова - Монго-Столыпиным, Шуваловым, А. Карамзиным.
Эти новые факты проливают свет на два эпизода биографин Лермонтова, имеющие важное значение для творческой истории "Демона" и стихотворения "1-е января".
А. П. Шан-Гирей писал: "Один из членов царствующей фамилии пожелал прочесть "Демона", ходившего в то время по рукам, в списках, более или менее искаженных. Лермонтов принялся за эту поэму в четвертый раз, обделал ее окончательно, отдал переписать каллиграфически и, по одобрении к печати цензурой, препроводил по назначению"*.
* (Воспоминания, с. 44)
Шан-Гирей связывал этот эпизод с пребыванием Лермонтова в Петербурге зимой 1838-1839 годов. При этом он добавлял, что после этого "Демон" больше не переделывался. Но существовала другая версия, до недавнего времени фигурировавшая во всех советских изданиях сочинений Лермонтова. Там указывалось, что чтение "Демона" при дворе состоялось в приезд поэта в Петербург в 1841 году в отпуск и поэма была прослушана при дворе наследника. Так когда же Лермонтов переделывал "Демона" в последний раз?
Основанием для второй версии служит рассказ родственника Лермонтова, Д. А. Столыпина (младшего брата Монго), дошедший до нас в передаче П. К. Мартьянова. Выступив с новыми материалами о поэте уже после А. П. Шан-Гирея, Мартьянов писал: "Между тем, некоторые высокие особы из императорской фамилии пожелали ознакомиться с поэмой, и поэт еще раз занялся пересмотром ее, изменил (...) отдал исправленную поэму переписать каллиграфу и переписанный список представил через генерал-адъютанта А. И. Философова (...) В данном случае "Демон" получил окончательную обработку и засим никаким дальнейшим изменениям не подвергался"*.
* (Мартьянов П. К. Дела и люди века, т. II, 1893, с. 124-125)
Нетрудно заметить, что Мартьянов попросту повторяет рассказ А. П. Шан-Гирея, механически присоединив к нему сведения Д. А. Столыпина о посредничестве А. И. Философова в 1841 году. При этом Столыпин указывал, что Философов, одним из первых издавший в 1856 году полного "Демона" в Карлсруэ, печатал его с копии, представленной им ко двору в 1841 году. Когда же в 1939 году список "Демона" действительно был обнаружен А. Н. Михайловой в архиве Философовых, версия Мартьянова была предпочтена учеными всем другим.
В архиве Философовых была найдена не только копия "Демона", но и переписка по этому поводу. Выяснилось, что перед отъездом в 1856 году в Карлсруэ Философов получил список "Демона" от гофмаршала Александра II В. Д. Олсуфьева. В бытность нового царя еще наследником престола Олсуфьев как гофмейстер его двора ведал библиотекой и архивом Александра Николаевича. Отсюда и появилась уверенность, что чтение "Демона" происходило при дворе наследника и, как утверждал Мартьянов, в 1841 году*.
* (Михайлова А. Н. Последняя редакция "Демона". - Литературное наследство, 1948, № 45-46)
Тем не менее в новых исследованиях о правильном тексте и творческой истории "Демона" этот вывод решительно оспаривался. Изучая многочисленные дореволюционные бесцензурные издания "Демона", сличая рукописи и варианты и анализируя идейное содержание последних редакций поэмы, два исследователя, Д. А. Гиреев и Т. А. Иванова, независимо один от другого пришли к одинаковому выводу. Оба настаивали на том, что Лермонтов в последний раз переделывал "Демона" в период, указанный Шан-Гиреем, то есть в 1838 году. Правильным текстом, по мнению этих исследователей, нужно считать редакцию, законченную 8 сентября 1838 года. Переделки же, внесенные Лермонтовым в "придворную" редакцию, нужно приводить в вариантах, так как, не вытекая из идейных и художественных соображений, они были сделаны под давлением внешних обстоятельств*.
* (См.: Гиреев Д. А. Поэма М. Ю. Лермонтова "Демон". Творческая история и текстологический анализ. Северо-Осетинское книжное изд-во, 1958; Иванова Т. А. Что говорят рукописи и книги (об основном тексте "Демона"), - Научные доклады высшей школы. Филологические науки, 1963, № 2, с. 176-186)
При этом Д. А. Гиреев обратил особое внимание на дату, проставленную на "философовском", так называемом придворном, списке "Демона": там указано, что поэма была закончена "4 декабря 1838 года". Почему же Лермонтов переделывал "Демона" в это время, если ко двору он должен был представить свою поэму лишь в 1841 году? Решив, что "философовский список является только копией "придворного" списка, указанные исследователи не имели возможности объяснить, чем были вызваны коренные существенные изменения поэмы 4 декабря 1838 года. Разные догадки не решали вопроса. И только теперь мы нашли фактическое обоснование новейшим взглядам на творческую историю "Демона".
Достоверно узнав, что В. А. Перовский прочел "Демона" во дворце 8 и 9 февраля 1839 года, мы понимаем, что в это-то время и были сделаны Лермонтовым последние переделки поэмы для представления "одному из членов царствующей фамилии", не названному А. П. Шан-Гиреем, но оказавшемуся императрицей Александрой Федоровной. Совершенно очевидно, что два раза изменять идейное содержание "Демона" для представления ко двору Лермонтов не мог. И, таким образом, окончание его работы над своей любимой поэмой надо отнести к концу 1838 года, как и указывал Шан-Гирей*.
* (Этот наш вывод подтвердился новонайденным списком "Демона" 1839 г. и другими материалами, собранными и проанализированными Э. Э. Найдичем (см. его статью "Последняя редакция "Демона" в журнале "Русская литература", 1971, № 1, с. 72-78). Выяснилось также, что 7 марта 1839 г. Лермонтов сдал рукопись "Демона" в цензуру и получил одобрение (см. статью В. Э. Вацуро о цензурной истории "Демона" в кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., Наука, 1979, с. 310-314))
Но почему же копия "придворного" списка хранилась в бумагах наследника? Ответ на этот вопрос мы находим во второй дате, вынесенной на титульный лист "философовского" списка с левой стороны, внизу: "13 сентября 1841 года". До сих пор значение ее оставалось неразгаданным: в это время Лермонтова не было уже в живых. Но мы скоро убедимся, что смерть поэта вызвала новый прилив интереса к его сочинениям при дворе. Очевидно, это коснулось и наследника. Естественно, что он обратился за рукописью к воспитателю младших царских детей, родственнику Лермонтова А. И. Философову, естественно, что тот должен был для этого разыскать ту "придворную" копию, которая была уже представлена императрице в феврале 1839 года. Пока список был отыскан, пока его переписали, настало 13 сентября.
Таким образом, при дворе было два чтения "Демона" - одно при жизни Лермонтова, другое после его смерти.
2
Как мы видели, разговоры императрицы с Соллогубом и Перовским о ненапечатанных стихах Лермонтова были каким-то образом связаны с ее маскарадными забавами. Известно, что в жизнеописаниях поэта большое место занимает некий маскарадный эпизод. Теперь его следует пересмотреть в свете новых данных.
Ссылаясь на устные рассказы бывшего редактора "Отечественных записок" А. А. Краевского и того же В. А. Соллогуба, П. А. Висковатов писал:
"На маскарадах и балах Дворянского собрания, в то время только входивших в моду, присутствовали не только представители высшего общества, но часто и члены царской фамилии. В Дворянском собрании под новый 1840 год собралось блестящее общество. Особенное внимание обращали на себя две дамы, одна в голубом, другая в розовом домино. Это были две сестры, и хотя было известно, кто они такие, то все же уважали их инкогнито и окружали почтением. Они-то, вероятно, тоже заинтересованные молодым поэтом и пользуясь свободой маскарада, проходя мимо него, что-то сказали ему. Не подавая вида, что ему известно, кто задел его словом, дерзкий на язык Михаил Юрьевич не оставался в долгу. Он даже прошелся с пышными домино, смущенно поспешившими искать убежища. Выходка молодого офицера была для них совершенно неожиданной и казалась им до невероятия дерзновенною. Поведение Лермонтова, само по себе невинное, являлось нарушением этикета, но обратить па это внимание и придать значение оказалось неудобным. Это значило бы предать гласности то, что прошло незамеченным для большинства публики. Но когда в "Отечественных записках" появилось стихотворение "Первое января", многие выражения в нем показались непозволительными"*.
* (Висковатов, с. 315)
Согласно этому рассказу, между маскарадной ночью и стихотворением "Как часто, пестрою толпою окружен..." прошло всего две недели: стихотворение было напечатано уже в первой книге "Отечественных записок" 1840 года (цензурное разрешение 14 января). Возникает недоумение. Если новогодний инцидент был таким острым, как бы мог решиться Лермонтов отдать в журнал, а Краевский напечатать стихотворение с авторским посвящением "1-е января", в котором заключались такие строки:
Когда касаются холодных рук моих С небрежной смелостью красавиц городских Давно бестрепетные руки...
Если согласиться с Висковатовым, что это был непосредственный ответ на маскарадную шутку "августейших" дам, такие стихи были бы уж слишком смелыми.
Между тем Тургенев-писатель задолго до Висковатова тоже утверждал в 1869 году в своих "Литературных и житейских воспоминаниях", что он наблюдал Лермонтова на маскараде Дворянского собрания под Новый 1840 год. И он тоже связывал этот бал со стихами Лермонтова "1-е января", хотя, естественно, ни словом не намекнул на инцидент с "высочайшими" домино. "Лермонтова я тоже видел всего два раза, - писал Тургенев, - в доме одной знатной петербургской дамы княгини Ш(аховск)ой и несколько дней спустя, на маскараде в Благородном собрании под Новый 1840 год... ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи..." Далее Тургенев цитирует приведенные выше строки о городских красавицах*.
* (Воспоминания, с. 228-229)
Тургенев высоко ценил это стихотворение, полностью принял на веру апокрифический рассказ о новогоднем инциденте, легшем в его основу, и в своих воспоминаниях приурочил запомнившуюся ему встречу с Лермонтовым в маскараде к 31 декабря. Еще раньше на связь между новогодним балом и стихотворением "Как часто, пестрою толпою окружен..." указал А. В. Дружинин. Называя эти стихи "бессмертной элегией", он утверждал в 1860 году, что она была "задумана на бале, дописана в невольном уединении"*. По этому намеку выходит, что Лермонтов был арестован за новогодний инцидент и прямо с гауптвахты прислал Краевскому для опубликования стихотворение с его гневным заключением:
* (Там же, с. 382)
О, как мне хочется смутить веселость их И дерзко бросить им в глаза железный стих, Облитый горечью и злостью!
Это было бы безрассудством, граничащим с пустым удальством.
Очевидно, в основу всех этих рассказов лег какой-то подлинный факт биографии Лермонтова, постепенно обраставший вымышленными подробностями.
Все эти противоречия заставляют нас проверить точность рассказа Висковатова.
Обращаемся к тогдашним петербургским газетам, в которых регулярно печатались извещения о публичных балах и маскарадах в Дворянском собрании и Большом Каменном театре. Полезные для нас сведения содержатся также в рукописном камер-фурьерском журнале, где отмечалось по часам ежедневное времяпрепровождение царя и царицы. Что же выяснилось? В зимний сезон 1839 -1840 годов в Дворянском собрании вообще не было новогоднего маскарада. Был устроен "великолеп ньтй", по словам "С.-Петербургских ведомостей", некостюмированный бал при стечении полутора тысяч гостей. Среди них "высокие" посетители - царь, наследник престола, царский брат и муж старшей дочери Николая I герцог Лейхтенбергский. Женская часть царской семьи не упомянута. Это парадное новогоднее торжество состоялось в Дворянском собрании 30 декабря 1839 года*. Следовательно, стихотворение, помеченное датой "1-е января", не могло явиться непосредственным откликом на этот официальный праздник, а тем более не могло быть связано с маскарадным инцидентом, так как бал 30 декабря не был костюмированным.
* (С.-Петербургские ведомости, 1840, 4 января)
Первый публичный маскарад Дворянского собрания в этом сезоне был устроен вскоре после Нового года - 9 января 1840 года*. Но эта дата уже не может иметь отношения к стихотворению Лермонтова, написанному 1 января.
* (См.: Северная пчела, 1840, 4 января: "В здешнем Дворянском собрании 9-го сего января имеет быть маскарад, входящий в число шести балов, в течение года положенных. Члены имеют приезд по своим годовым билетам, при входе предъявляемым; билеты же для гостей, по запискам членов постоянных, равно и следующие сим членам для дам их семейств, те и другие именные, можно получать в конторе Собрания от бухгалтера ежедневно от двенадцати до трех часов утра и от восьми до двенадцати часов вечера". Этот маскарадный бал был четвертым из шести, назначаемых ежегодно. Второй бал, так же как и третий, не маскарадный (30 декабря), состоялся 21 декабря; следовательно, И. С. Тургенев не мог видеть Лермонтова под Новый 1840 год ни на одном маскараде Дворянского собрания)
В газетных отчетах о новогоднем бале 30 декабря обращает на себя внимание отсутствие на этом бале императрицы и царских дочерей. Это не случайно. Тут мы должны распутать еще одно недоразумение.
Ввиду того, что Висковатов сообщил о столкновении Лермонтова с "двумя сестрами", принадлежавшими к царской семье, а Мария Николаевна "заказала" Соллогубу повесть, высмеивающую светское значение поэта, было принято считать, что под "розовым и голубым домино" скрывались старшие дочери Николая I - Мария и Ольга*. Но мы должны отказаться от этой версии, познакомившись ближе с обстановкой тех лет. Мария Николаевна в июле 1839 года вышла замуж за герцога Максимилиана Лейхтенбергского и вскоре перестала выезжать в публичные собрания. Она ждала ребенка и 28 марта 1840 года родила дочь. Ясно, что она не могла появиться в домино на маскараде под Новый 1840 год. Ольга Николаевна, находившаяся еще под надзором придворных учителей и воспитательниц, была в конце 1839 года тяжело больна много недель. Опасались за ее жизнь. Только 8 декабря миновал кризис, и врачи объявили о начале выздоровления**. После этого дня Ольга Николаевна даже заново училась ходить, как она пишет сама в своих позднейших воспоминаниях***. Следовательно, предположение о столкновении Лермонтова с царскими дочерьми отпадает.
* (Мои статьи "Подлая расправа" (Известия, 1939, 14 октября) и "К вопросу о дуэли Лермонтова" (Альманах. Год XXII, № 16, 1940) отменяются с выходом данной книги (1 и 2 издания))
** (ЦГАОР, ф. 632, oп. 1, № 17, л. 2-3)
*** (Сон юности. Записки дочери императора Николая I вел. княгини Ольги Николаевны. Париж, 1963, с. 113-116)
Между тем публичный новогодний маскарад все-таки был в Петербурге в 1840 году, но не в Дворянском собрании, а в Большом Каменном театре. На этот маскарад указал ряд советских исследователей после того, как в первом издании книги "Судьба Лермонтова" мною было сообщено об отсутствии новогоднего маскарада в Дворянском собрании. Но в театре маскарад был устроен не под Новый год, как ошибочно утверждали упомянутые исследователи*, а уже в новом году, в ночь с 1 на 2 января. Костюмированные балы в Большом театре начинались обычно после окончания спектаклей, в 11 часов 30 минут вечера. Вся знать съезжалась после полуночи. В частности, читаем в камер-фурьерском журнале, что 1 января 1840 года царь выехал "в возке" из дворца в Большой театр уже в "50 минут 12-го часа", а вернулся во дворец в "55 минут 2-го часа пополуночи"**, то есть под утро 2-го. На этом маскараде с ним опять были наследник и великий князь Михаил Павлович. Все это позволило некоторым авторам прийти к выводу, что стихотворение Лермонтова было адресовано не "розовому и голубому" домино, а самому царю и его близким. Но Лермонтов не мог бы его написать ранее 2-го января, а ведь не случайно он поставил над своим стихотворением дату "1-е января". Поэтому для установления прямой связи между маскарадом в Большом театре и стихотворением Лермонтова требуется уж слишком большая натяжка.
* (См.: Яшин М. История гибели Пушкина. Л., Нева, 1969, №4, с. 180; Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 4-х томах. Вступительная статья и примеч. И. Андроникова, т. 1. М., Художественная литература, 1975, с. 531-532; Найдич Э. Э. Избранное самим поэтом...- Русская литература, 1976, № 3, с. 71)
** (ЦГИА, ф. 516, оп. 120/2322, № 151, л. 16об)
Мало того. Состав платных маскарадов, устраиваемых театральной дирекцией, был гораздо пестрее, чем в Дворянском собрании, куда по именным членским билетам съезжалась отборная публика*. Недаром в повести Соллогуба "Большой свет", вышедшей в 1840 году, о разношерстной публике маскарадов в Большом театре говорится так: "Много здесь женщин и первого сословия, и второстепенных сословий, и таких, которые ни к какому сословию не принадлежат". Рядом с этой характеристикой строки Лермонтова о бестрепетных руках городских красавиц не выглядят оскорбительными, если сопоставлять их с театральным маскарадом в ночь с 1 на 2 января.
* (См. примеч. 18)
В советской научной литературе было высказано еще одно предположение: дата "1-е января", выставленная Лермонтовым, ничего не означает. Он, мол, просто хотел отметить начало года*. Но такие намерения более свойственны бухгалтеру, чем поэту. Мы знаем в раннем творчестве Лермонтова восемь стихотворений, где дата играет большую роль, являясь заглавием. Из них только три посвящены внешним событиям: "10 июля" - политическому, а "7 августа" и "28 сентября" - любовным встречам. Остальные отражают события внутренней жизни поэта - день душевной омраченности, или обостренного видения природы, или озарения глубокой мыслью. Таков философский монолог "1831-го июня 11 дня" ("Моя душа, я помню, с детских лет..."). Вернее всего, день 1 января тоже был важен Лермонтову внутренним наполнением. Остальное - доделали сочувствующие читатели и политические недоброжелатели.
* (Теребенина Р. Е. Записи о Пушкине... и других писателях в дневнике П. Д. Дурново. - В кн.: Пушкин. Исследования и материалы, т. VIII. Л., Наука, 1978, с. 270-271)
Все это заставляет нас попытаться установить, где же встречал Новый год Лермонтов, и проверить, действительно ли в стихотворении "Как часто, пестрою толпою окружен..." описан маскарадный бал.
По первому вопросу мы не располагаем прямыми материалами, но существуют косвенные, достаточно веские. Так, 3 января 1840 года П. А. Вяземский писал из Петербурга за границу жене и больной дочери: "Новый год встретили мы, разумеется, у Карамзиных. Пили шампанское за себя и за вас, а я вместе с шампанским проглотил несколько слез. После отправились мы к Одоевскому, там пунш и чернильный народ, между прочим и редактор полицейских ведомостей. В Новый год был бал у Баранта, вчера раут у Разумовских, сегодня бал у Юсуповых... вчера от раута Разумовских (нрзб.) маленький раутик к Валуевым"*.
* (ЦГАЛИ, ф. 195, on. 1, № 3271, л. 120- 120об)
Возможно, что встреча Нового года у Карамзиных и В. Ф. Одоевского не прошла без Лермонтова, завсегдатая этих двух дружественных ему домов. Мы не можем быть уверенными, что поэт посетил все перечисленные Вяземским святочные светские собрания, но в том, что он был на новогоднем балу в французском посольстве, нас уверяет, как уже говорилось, исследователь, пользовавшийся семейным архивом Барантов. Это был блестящий фешенебельный бал, конечно не маскарадный, на который в 5 часов дня приехали ненадолго императрица и наследник*. Можно ли считать "1-е января" прямым откликом на этот бал?
* (ЦГАОР, ф. 672, on. 1, № 516, 1 янв. 1840)
Прежде всего, в стихотворении описан не конкретный бал. Это лирическая медитация, посвященная самоощущению поэта на публичных балах. На это указывают такие обороты: "Как часто... когда... И если как-нибудь... удастся мне забыться... Когда ж, опомнившись, обман я узнаю, и шум... вспугнет мечту мою..." Тут собирательное время, подразумевающее многократное повторение одинаковой ситуации. Но навеяна эта медитация могла быть балом у Баранта, куда так не хотел допустить приглашения Лермонтова Бенкендорф.
Ну а маскарад? Если обратиться к стихотворению Лермонтова непредвзято, в нем нельзя найти ни одного признака маскарада. Сравним его с двумя произведениями Лермонтова, непосредственно посвященными маскарадам,- "Из-под таинственной, холодной полумаски..." и драмой "Маскарад".
Арбенин отзывается о поведении великосветских дам: "...Диана в обществе... Венера в маскераде..." Объяснение этой хлесткой формулы находим в более пространной характеристике тех же дам: "И если маскою черты утаены, // То маску с чувств снимают смело". Вся роль баронессы Штраль подтверждает меткость сарказмов Арбенина. В стихотворении "1-е января" "мелькают" диаметрально противоположные образы - "образы бездушные людей, // Приличьем стянутые маски".
В стихотворении "Из-под таинственной, холодной полумаски..." звучит "отрадный, как мечта" голос незнакомки. Ее "живые речи" следует противопоставить "дикому шепоту затверженных речей" новогоднего стихотворения.
Тут "шум музыки и пляски", а в маскарадах не танцуют, и Звездич на вопрос Арбенина "не набрели еще на приключенье?" отвечает: "Как быть, а целый час хожу"* Леонин из соллогубовской повести "в двадцатый раз обмерял шагами все залы - и все напрасно: никто с ним не останавливался, никто не обращал на него внимания. Ноги его подкашивались от усталости". Корф наблюдал в Большом театре, как "все ходят по воле"**, в соллогубовском маскараде гости "ходят будто по Невскому". П. А. Вяземский шутливо называл маскарады "моционом": "ходишь себе три часа взад и вперед с шляпой на голове и не боишься, что заденут сани или дышло"***.
* (Курсив мой. - Э. Г.)
** (Там же. ф. 728, on. 1, ч. 2, № 1817, т. II, л. 55об)
*** (См. примеч. 26, л. 133об)
Даже "пестрая толпа" лермонтовского стихотворения не соответствует цветовой характеристике маскарадных балов. Соллогуб описывает их так: "Толпы все мерно волновались вокруг залы. Большая часть масок расхаживала одноцветными* фалангами..." "Взгляни на этих черных атласных барынь", - обращается один из персонажей повести к главному герою, а графиня Воротынская из той же повести наряжена "в прекрасное домино, обшитое черным кружевом". Через несколько часов в длинном ряду кресел мелькнуло пред Леониным "черное домино с кружевом" все той же Воротынской. Этот наряд не случаен. В "Северной пчеле" упоминалось 1 февраля 1840 года "о темных шелковых капуцинах, установленных ныне нашими дамами неизменным маскарадным костюмом". Одни цветные фраки мужчин не создадут, конечно, впечатляющей гаммы красок, характерной для "пестрой толпы".
* (Курсив мой. - Э. Г.)
В лермонтовской драме обстановка маскарада воспроизведена точными чертами. В первой же ремарке читаем: "Толпа проходит взад и вперед по сцене; налево канапе". Приключение Звездича с баронессой начинается с того, что "одна маска отделяется и, ударив его по плечу", заводит с ним интригующий разговор. Арбенин безжалостно "тащит за руку мужскую маску": "Вы мне вещей наговорили // Таких, сударь, которых честь // Не позволяет перенесть. .." Сцена потери Ниной браслета не менее груба: "На канапе сидят две женские маски, кто-то подходит и интригует, берет за руку. .. одна вырывается и уходит, браслет спадает с руки". Все грубо, резко, аритмично. В такой обстановке не рождаются мечтанья, забытье, взгляд на окружающее "как будто бы сквозь сон". В "1-м января" чувствуется "блеск утомительный бала" (как в стихотворении, посвященном М. А. Щербатовой), его эстетическое колдовство. Движенье к знаменитой развязке строится на борьбе с завораживающей силой бездушного ритуала великосветского бала, частые enjambements* как будто исподволь взрывают плавное течение строф, подготавливая силу удара заключительной инвективы. Но для обличенья маскарада "железный стих" не нужен. "Горечь" и "злость" не покажутся неслыханной дерзостью разнузданным маскам, имитирующим венецианский карнавал.
* (Перенос части целой фразы из одной стихотворной строки в другую (фр.))
Очевидно, стихотворение "Как часто, пестрою толпою окружен..." только по инерции связывают с маскарадом. Ложная традиция ведет свое начало от городских толков о какой-то выходке Лермонтова на костюмированном балу в Дворянском собрании. Между тем и без этой выходки стихотворение с датой "1-е января" звучало достаточно вызывающе по отношению к великосветскому обществу, веселящемуся в новогодние дни во главе с царем. И когда во время истории дуэли с Барантом обнаружилось явное преследование Лермонтова Бенкендорфом, все это вместе соединилось в сознании современников со слухами о маскарадном эпизоде. Так в литературных кругах родилась устойчивая легенда, изложенная П. А. Висковатовым в написанной им биографии Лермонтова.
Но следует ли из этого, что никакого столкновения поэта с высокопоставленными "домино" никогда не было? Мы не имеем права так решительно отвергать версию, которую Висковатов передавал со слов А. А. Краевского, одного из ближайших и достоверных свидетелей жизни Лермонтова в Петербурге. Не случилось ли маскарадное происшествие ранее, независимо от Нового 1840-го года? Не связано ли оно с тем временем, когда императрица, как мы видели, интриговала в маскараде Дворянского собрания близких приятелей Лермонтова и одновременно интересовалась им самим и его стихами? Поставленные вопросы заставляют нас обратиться к более ранним событиям, чтобы проследить, как развивались взаимоотношения Лермонтова с двором после его возвращения из первой кавказской ссылки в Петербург в 1838 году.
3
Обращаемся к той поре, когда Лермонтов еще не прославился своими стихами на смерть Пушкина, был незаметным корнетом лейб-гвардии гусарского полка и только узкому кругу его друзей было известно, что он пишет стихи и прозу. Вспомним еще раз драму в стихах "Маскарад", написанную им в 1835-1836 годах и запрещенную цензурой из-за "слишком резких страстей и характеров", а также потому, что в ней "добродетель недостаточно награждена"*. По всей вероятности, Лермонтову не было тогда известно, что в особую вину ему были поставлены нападки на маскарады, устраиваемые. Дворянским собранием в доме Энгельгардта. Прямо указав этот адрес в первом действии: "Ведь нынче праздники и, верно, маскерад // У Энгельгардта...", во втором действии Лермонтов чрезвычайно резко отзывается об этих празднествах:
* (См.: Лермонтов М. Ю. Поли. собр. соч., т. II. М., Academia. 1936, с. 178-179)
Как женщине порядочной решиться Отправиться туда, где всякий сброд, Где всякий ветреник обидит, осмеет; Рискнуть быть узнанной...
"Я не понимаю, как автор мог допустить такой дерзкий выпад против костюмированных балов в доме Энгельгардта", - возмущенно писал цензор Ольдекоп. А читая в конце года исправленную Лермонтовым рукопись драмы, повторяет: "В новом издании мы находим те же самые непристойные нападки на костюмированные балы в доме Энгельгардта, те же дерзости против дам высшей знати"*.
* (Лермонтов М. Ю. Соч., т. V, с. 738, 743)
Отзыв Ольдекопа, как доказано советскими исследователями, был инспирирован самим Бенкендорфом. Характерна догадка цензора Ольдекопа, предположившего, что сюжет "Маскарада" основан на истинном петербургском происшествии.
Негодование III Отделения приобретет в наших глазах особенную остроту, если знать, что уже в эти годы в числе знатных маскированных дам нередко скрывалась сама императрица. В дневниковой записи Д. Ф. Фикельмон от 14 февраля 1833 года подробно описан дебют жены Николая I на этом поприще:
"Бал-маскарад в доме Энгельгардта. Императрица захотела туда съездить, но самым секретным образом и выбрала меня, чтобы ее сопровождать. Итак, я сначала побывала на балу с мамой, через час оттуда уехала и вошла в помещение Зимнего дворца, которое мне указали. Там я переменила маскарадный костюм и снова уехала из дворца вместе с императрицей в наемных санях и под именем m-lle Тимашевой. Царица смеялась как ребенок, а мне было страшно: я боялась всяких инцидентов. Когда мы очутились в этой толпе, стало еще хуже - ее толкали локтями и давили не с большим уважением, чем всякую другую маску. Все это было ново для императрицы и ее забавляло. Мы атаковали многих. Мейендорф, модный красавец, который всячески добивался внимания императрицы, был так невнимателен, что совсем ее не узнал и обошелся с нами очень скверно. Лобанов тотчас же узнал нас обеих, но Горчаков, который провел с нами целый час и усадил нас в сани, не подозревал, кто мы такие. Меня очень забавляла крайняя растерянность начальника полиции Кокошкина - этот бедный человек очень быстро узнал императрицу и дрожал, как бы с ней чего не случилось. Он не мог угадать, кто же такая эта m-lle Тимашева, слыша, как выкликают ее экипаж. Кокошкин не решался ни иоследо вать за нами, ни приблизиться, так как императрица ему это запретила. Он действительно был в такой тревоге, что жаль было на него смотреть. Наконец, в три часа утра я отвезла ее целой и невредимой во дворец и была сама очень довольна, что освободилась от этой ответственности"*.
* (Раевский Н. Избранное. М., ИХЛ, 1978, с. 124. Перевод с фр. со следующим примечанием: "Перевод записи об этом приключении сделан с фотокопии с. 144-146 тетради дневника. В 1965 г. я смог воспользоваться лишь неточным изложением в статье А. В. Флоровского")
Подобное же приключение зафиксировано в дневнике императрицы за 1 марта 1834 года, причем внимание ее привлек не кто иной, как Дантес - ее новый протеже. В камер-фурьерском журнале находим такое описание этого вечера: "После ужина 40 мин. 12-го часа вечера их величества выезд имели в карете в дом г-жи Энгельгардт (...) где изволили присутствовать в публичном маскараде. Государь император, одетый в кавалергардский мундир и венециане*, изволил проходить по комнатам дома, а ее величество с фрейлинами гр. Тизенгаузен и гр. Шереметьевой сидели в ложе"**. Если императрица, по свидетельству камер-фурьера, только из ложи смотрела на забавляющегося с маскированными дамами Николая I, то после отъезда во дворец она вернулась в дом Энгельгардта уже под маской. Об этом ясно сказано в ее дневнике за 1 марта 1834 года: ".. .поехали в ложу. Смотрели маскированный бал. Около часу уехали, но опять туда с Соф. Бобр, и Катрин. Немного интриговали. Дантес, bonj. m. gentille***, но не так красиво, как в прошлом году. В 3/4 3 домой..."**** Следовательно, присутствие замаскированной императрицы в камер-фурьерском журнале не отмечалось.
* (Мужской головном убор, обязательный при посещении маскарадов)
** (Яши и М. Преддуэльная хроника. - Звезда, 1963, № 9, с. 170)
*** (Здравст(вуй), м(оя) милашка (фр.))
**** (ЦГАОР, ф. 672, on. 1, № 413, л. 59. Перевод с нем)
Увлечение царствующей четы маскарадами имело политический резонанс. Так, в свое время еще Пушкин, описывая в дневнике "приватный" маскарад в Аничковом дворце, заключал: "В городе шум. Находят все это неприличным" (1835)*.
* (Пушкин А. С. Поли. собр. соч. в 16-ти томах, т. XII. М., Изд-во АН СССР, 1949, с. 336)
Видимо, эти толки отразились в "Маскараде" Лермонтова.
Поскольку эта драма не увидела света при жизни автора, "дерзости" его против "дам высшей знати" остались незамеченными современниками. Но хорошо осведомленный писатель А. Н. Муравьев утверждал, что цензура (то есть III Отделение) получила "неблагоприятное мнение о заносчивом писателе, что ему вскоре отозвалось неприятным образом"*. Муравьев имел в виду небывалое но смелости политическое выступление Лермонтова, охарактеризованное Бенкендорфом как "бесстыдное вольнодумство, более чем преступное"**. В то же время Николай I приказал провести медицинское освидетельствование Лермонтова, чтобы "удостовериться, не помешан ли он". Речь шла о знаменитом "прибавлении" к "Смерти поэта" (то есть о последних шестнадцати строках, направленных прямо против двора: "Вы, жадною толпой стоящие у трона, // Свободы, Гения и Славы палачи!").
* (Воспоминания, с. 196)
** (Шостакович С. Лермонтов и Николай I. - Литературная газета, 1959, 14 октября, № 126, с. 3. Подлинник по-фр)
"Надменные потомки // Известной подлостью прославленных отцов" никогда не могли простить до тех пор безвестному нетитулованному гусарскому офицеру его вмешательства в их генеалогические распри.
Однако Лермонтов, высланный за эти стихи на Кавказ, вскоре был прощен царем. Формально это было сделано по личной просьбе Бенкендорфа. Из биографии Лермонтова известно, что Бенкендорф снизошел к мольбам бабушки поэта, не пожалевшей сил и средств для спасения внука. Но думается, что здесь был дальний прицел. Царь и его слуга предпочитали держать неблагонадежного поэта под рукою, в столице и Царском Селе, чтобы легче было над ним надзирать. Это соображение поддерживается тем, что именно "по совету гр. Бенкендорфа" Е. А. Арсеньева "не пускала в отставку" Лермонтова, к которой он стремился с самого начала своей вторичной службы в лейб-гвардии гусарском полку*.
* (Цитирую по рассказу П. А, Висковатова. ссылавшегося на сообщения А. А. Краевского и А. П. Шан-Гирея **)
** (Висковатов, с. 316)
Помилованный царем и прославленный своими стихами, Лермонтов занял в Петербурге совсем новое для себя положение. Зимой 1838-1839 годов он сам об этом писал в подробном письме к М. А. Лопухиной: "Я пустился в большой свет; в течение месяца на меня была мода, меня буквально разрывали. Это, по крайней мере, откровенно. Весь этот свет, который я оскорблял в своих стихах, старается осыпать меня лестью; самые хорошенькие женщины выпрашивают у меня стихи и хвастаются ими, как величайшей победой..."
В ту же пору, 16 января 1839 года М. А. Корф писал в своем тайном дневнике:
"Элементы, из которых составляются все эти балы большого света, довольно трудно обнять какими-нибудь общими чертами. Разумеется, что на них бывает весь аристократический круг; но кто именно составляет этот круг в таком государстве, где одна знатность происхождения не дает сама по себе никаких общественных прав, - объяснить не легко. В этом кругу есть всего понемножку, но нет ничего, так сказать, доконченного, округленного. Тут есть и высшие административные персонажи, но не все; некоторые отделяются от светского шума по летам, другие по привычке и наклонностям. Точно так же в этом кругу есть и богатые и бедные, и знатные и ничтожные, даже такие, о которых удивляешься, как они туда попали, не имея ни связей, ни родства, ни состояния, ни положения в свете! Между тем весь этот круг, как заколдованный: при 500 000 населения столицы, при огромном дворе, при централизации здесь всех высших властей государственных - он состоит не более, как из каких-нибудь 200 или 250 человек, считая оба пола, и в этом составе переезжает с одного бала на другой, с самыми маленькими и едва заметными изменениями, так что в этом кругу, то есть в особенно так называемом большом свете, невозможно и подумать дать в один вечер два бала вдруг. Молодые люди-танцоры попадают легче, но тоже не без труда. Так, например, флигель-адъютанты и кавалергардские офицеры почти все везде; конногвардейских много; прочих полков можно всех назвать наперечет, а некоторых мундиров, например, гусарского, уланского и большей части пехотных гвардейских решительно нигде не видать. Появление в этом эксклюзивном кругу нового лица, старого или молодого, мужчины или женщины, так редко и необыкновенно, что составляет настоящее происшествие. Заключу одним: человеку, не посвященному в таинства петербургских салонов, невозможно ни по каким соображениям угадать a priori, кто принадлежит к большому кругу и кто нет. Есть министры, члены Государственного совета, генерал-адъютанты, статс-секретари, придворные чины,- не говоря уже о сенаторах, которых нигде никогда не увидишь, которые решительно никуда не приглашаются: есть люди знатные по роду и богатству, просвещенные, со всеми формами лучшего общества, которые в том же положении; и есть, напротив, - как я уже сказал,- люди совершенно ничтожные, которые везде бывают, которых везде зовут, большею частью потому, кажется, что они играют в высокую игру, до которой некоторые из наших баричей большие охотники"*.
* (Русская старина, 1904, т. 167, кн. 2, с. 276-278)
Знаменательно наблюдение Корфа о лейб-гусарских мундирах. Не на Лермонтова ли намекал он, трактуя появление нового лица в "большом свете" как необыкновенное происшествие? Новшеством являлось также появление новых танцоров на балах в Аничковом дворце. В пушкинские времена на эти роли предназначались преимущественно офицеры кавалергардского полка. Теперь выбор хозяйки пал на однополчан Лермонтова. Уже с октября 1838 года в записях камер-фурьерского журнала начинают мелькать имена лейб-гусаров - приятелей или родственников Лермонтова. Так, 9 октября среди приглашенных к званому парадному ужину в Царском Селе мы видим А. Г. Столыпина и Монго-Столыпина. Рядом с ними - А. П. Шувалова и А. Н. Долгорукого, о которых мы расскажем позже подробнее в связи с их участием в "кружке шестнадцати", членом которого был Лермонтов. 3 и 29 января 1839 года эти лейб-гусары приглашаются в Аничков дворец для танцев*. Но ведь мы помним, что в эти же дни императрица интриговала под маской Монго-Столыпина и Шувалова, Соллогуба и Александра Карамзина. Не в эту ли пору произошел маскарадный инцидент с Лермонтовым, породивший легенду о стихотворении "1-е января"? У нас нет прямого свидетельства, что поэт присутствовал на маскарадах в доме Энгельгардта в январские и февральские дни 1839 года, но тень его витает на этих собраниях - о нем говорят. Именно в январе императрица просит у Соллогуба доставить ей неизвестное стихотворение Лермонтова, именно в маскарадной карете шел ее разговор с Перовским о Лермонтове и его "Демоне". И в это же время при дворе стали шепотом говорить о маскарадных приключениях жены Николая I. Так, М. А. Корф, описывая 2 февраля 1839 года посещения публичных маскарадов царем, прибавляет: "На некоторых маскарадах бывает и императрица, но всегда маскированная и интригует мужчин не хуже другой какой-нибудь дамы. В таком случае обер-полицмейстеру поручается достать для нее какую-нибудь городскую карету, с лакеями в полуободранных ливреях, и она приезжает в совершенном инкогнито. Завеса поднимается разве только для каких-нибудь самых приближенных, а масса публики никогда не знает с достоверностью, тут ли императрица или нет"**.
* (ЦГИА, ф. 516, оп. 120/2322, № 151, л. 16об., л. 32, 80об)
** (См. примеч. 28)
Предположение, что героиней маскарадной выходки Лермонтова была императрица и что произошло это происшествие за год до стихотворения "1-е января", поддерживается одним существенным выпадом в повести Соллогуба "Большой свет", писавшейся в 1839 году*.
* (Об этой повести см. ниже главу "За кулисами "Большого света")
Повесть открывается описанием маскарада в Большом Каменном театре: там происходит завязка всего романа. Леонина (Лермонтова) атакует "первая петербургская дама" графиня Воротынская. С этого дня Леонин вовлекается в "большой свет" под покровительством графини, которое он принимает за чистую монету. В эпилоге, когда интрига раскрывается, Сафьев, обращаясь к бабушке Леонина, вспоминает: "В маскараде начались нападения графини на вашего внука, и он, несмотря на мои советы, поверил всем ее заманкам". В дальнейших убийственных разоблачениях Сафьева упоминается "лучший приятель Леонина князь Щетинин" (а его прототип сам Соллогуб!), который "смеялся вместе с графиней над его простотою". Это ключ к замыслу повести.
4
"Самая свежая и поразительная наша новость, - писала императрица сыну-наследнику за границу в конце сентября 1838 года, - Маша Трубецкая выходит замуж за гусарского офицера Столыпина, зятя Философова. Ему 32 года, он красив, благовоспитан, хорошо держится, добр и очень богат, чем тоже не следует пренебрегать. Они купаются в блаженстве, семья действительно нуждалась в утешении после небывалых родов этой весной. Говорят, что Сергей очень похудел, у него сокрушенный вид"*.
* (ЦГАОР, ф. 678, oп. 1, № 736, л. 117-117об. Перевод с фр)
Сообщая будущему царю Александру II интересующую его новость, императрица упоминает в этом письме о трех близких Лермонтову людях.
Уже знакомый нам А. И. Философов пользовался в царской семье большим доверием. Так, свое известное письмо к Михаилу Павловичу о смерти Пушкина Николай I послал брату через его адъютанта Философова*. В это время Философов уже был женат на родственнице Лермонтова - Анне Григорьевне Столыпиной и хлопотал о Лермонтове во время ссылки его за стихи на смерть Пушкина.
* (Русская старина, 1902, № 5, с. 225-227)
Сергей Трубецкой, родной брат фаворита императрицы, насильно обвенчанный Николаем с беременной Е. П. Пушкиной, был другом Лермонтова, а впоследствии и секундантом его на дуэли с Мартыновым.
А. Г. Столыпин, хотя формально приходился Лермонтову лишь двоюродным дядей, фактически заменял ему старшего брата. По его совету Лермонтов поступил в юнкерскую школу с определением в лейб-гусарский полк. Выйдя в 1834 году в офицеры, Лермонтов поселился в Царском Селе на общей квартире с обоими Алексеями Столыпиными - то есть Монго и будущим мужем княжны Трубецкой.
А. Г. Столыпин опекал молодых гусар, вел общее хозяйство, руководил ими в полку. По-видимому, после возвращения Лермонтова из первой кавказской ссылки все трое опять жили вместе в Царском Селе.
Императрица очень отличала Марию Трубецкую. "И вот Маша сговорена, - пишет она С. А. Бобринской. - Вы поймете, как я обрадована этой новостью, совершенно неожиданной"*. В дневнике она отмечает 27 сентября 1838 года: "Трубецкая Маша - невеста Столыпина"**.
* (ЦГАОР, ф. 851, оп. 1, № 15, л. 85об. Перевод с фр)
** (Там же, ф. 672, оп. 1, № 415. Перевод с нем)
Какое-то особое значение имел для императрицы и день свадьбы, происходившей уже зимой. В свою маленькую записную книжку она вклеивает на память розовую ленточку и подписывает: "Свадьба Марии Столыпиной. 22 января 1839"*.
* (Там же, № 432, л. 5. Перевод с фр)
24 января императрица пишет сыну: "Кстати, позавчера состоялась свадьба Марии Трубецкой и Столыпина. Это была прямо прелестная свадьба. Жених и невеста... восхищенные родственники той и другой стороны. Мы, принимающие такое участие, как будто невеста - дочь нашего дома. Назавтра все явились ко мне, отец, мать, шафера с коробками конфет и молодожены, прекрасно одетые"*. Подробно описывая накануне эту свадьбу в дневнике, Александра Федоровна называет еще два имени: ".. .Шафера с конфетами (Ал(ександр) Тр(убецкой) и Монго-Столыпин)..."**
* (Там же, ф. 678, on. 1, № 736, л. 166- 166об. Перевод с фр)
** (Там же, ф. 672, on. 1, № 416, л. 82об. Перевод с нем)
Среди "восхищенных родственников" жениха присутствовал и Лермонтов. При этом надо иметь в виду, что А. Г. Столыпин представил в церемониальную часть список из сорока своих родственников, но на венчании в Аничковом дворце из них присутствовало только семнадцать*. Как видим, Лермонтов не был исключен из списка "приглашенных от их императорских величеств", как гласит запись камер-фурьерского журнала за 22 января 1839 года**. Вместе с тем на венчании во дворце не было родного брата невесты Сергея Трубецкого: он был в немилости у царя. Следовательно, автор "Смерти поэта" был сознательно допущен на это полусемейное торжество царской семьи. Эти факты создают впечатление, что Лермонтова хотели приручить.
* (Подробнее об этом см. мою заметку "Лермонтов в Аннчковом" - в кн.: М. 10. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., Наука, 1979, с. 178-179)
** (ЦГИА, ф. 516, оп. 120/2322, № 151, л. 56-59)
Читая запись камер-фурьерского журнала за 22 января 1839 года, мы можем ясно себе представить, как Лермонтов вместе со своими родными ожидал в церкви Аничкова дворца выхода невесты, окруженной царской четой и их тремя дочерьми, очевидно, тоже "кушал шампанское вино и чай" в белой комнате дворца после венчания и был затем среди тех, кто встретил царя в доме молодоженов. Николай I принял там новобрачную "по обыкновенному порядку иконою", потом "кушал чай" и через полчаса, откланявшись "бывшим в доме обоего пола особам", возвратился в собственный дворец. Надо думать, что наблюдательный глаз поэта останавливался не только на лицах царя и членов его семьи, но и на других приглашенных со стороны невесты. Среди них были графы Строгановы, Бобринские... Лермонтов не мог не знать, что эти семейства покровительствовали Дантесу и защищали его после гибели Пушкина.
Но заметили ли "высочайшие особы" маленького гусара среди родственников "со стороны жениха"? Упоминалось ли его имя за ужином царской семьи, на который были приглашены только С. А. Бобринская и В. А. Перовский? На этот вопрос ответить трудно, но не далее как через две недели Перовский говорил с императрицею о Лермонтове, читал ей "Демона", а Александра Федоровна делилась своими впечатлениями с Бобринской в одной из своих очередных записочек.
Замужество не отдалило Марию Столыпину от дворца. Напротив, она постоянно обедает за царским столом, дружит с великой княгиней Марией Николаевной, занимает собой наследника.
П. В. Долгоруков в своих позднейших петербургских памфлетах, печатавшихся за границею, отзывался о М. В. Столыпиной как о женщине "ловкой", "бойкого ума", "искусной пройдохе и притом весьма распутной"*. Он описывает скандальную историю ее второго брака в 1851 году с князем С. М. Воронцовым после смерти А. Г. Столыпина: ловкий отказ князя А. И. Барятинского жениться на вдове, хотя его просил об этом наследник, согласие Воронцова, за что эта фамилия получила титул "светлейших"... Рассказывая об этом, Долгоруков исходил из общеизвестного факта близости М. В. Столыпиной и с наследником и с Барятинским.
* (Долгоруков П. В. Петербургские очерки. М., Север, 1934, с. 212)
В повести "Хаджи-Мурат" Л. Н. Толстой показывает ничтожество С. М. Воронцова и его полное подчинение жене, "знаменитой петербургской красавице", которую Толстой называет ее настоящим именем.
Теперь мы узнаем, что Лермонтов был ближайшим свидетелем начала специфической придворной карьеры М. В. Столыпиной. Еще тогда наследник был поражен известием о ее свадьбе. "Поручаю тебе поздравить милую Машу [Труб] Столыпину, я не могу себе представить, что она замужем!!" - пишет он из Турина великой княжне Марии Николаевне 9 февраля 1839 года*.
* (ЦГАОР, ф. 728, on. 1, ч. 2, № 1193, л. 18об. Перевод с фр)
В связи с женитьбой А. Г. Столыпин вышел из лейб- гусарского полка. 8 июля 1839 года он был назначен адъютантом герцога Максимилиана Лейхтенбергского, вступавшего в брак с великой княжной Марией Николаевной.
Головокружительная карьера этого родственника Лермонтова с самого начала вызывала недоброжелательные и завистливые толки "свинского Петербурга". М. А. Корф приводит 24 мая 1839 года в своем дневнике характерный эпизод: "Наследник не пропускает ни одного курьера, чтобы не прислать императрице какого-нибудь подарка. На днях письмо с такою посылкою вручено было императрице в то время, как она прогуливалась по царскосельским улицам пешком. В нетерпении своем прочесть письмо милого сына, она вошла в один из тех домов, которых прежде никогда еще не удостаивала своим посещением, именно к гусару Столыпину, всплывшему наверх через недавнюю женитьбу свою на княжне Трубецкой, дочери генерал-адъютанта, и вошла без спросу и без докладу. Последствием этого было, что она застала хозяйку в глубоком неглиже за флигелем, а хозяина в архалуке, с гитарою. Между тем, в городе говорят, что императрица была у Столыпиных, тогда как она зашла собственно к ним как в ближайший дом, чтобы прочесть письмо наследника.. ."*
* (Там же, № 1817, т. II, л. 153)
Как бы ни опровергал Корф городские сплетни о приближении ко двору Столыпиных, в своем дневнике он зафиксировал, что они циркулировали по великосветскому Петербургу. Это должно было ставить в двусмысленное положение и Лермонтова. Недаром, по словам Висковатова, "враги охотно выставляли Лермонтова прихвостнем Столыпина в гостиных столицы"*. К этому времени относятся письма поэта к Лопухиным, свидетельствующие о его чрезвычайно угнетенном состоянии.
* (Висковатов, с. 324)
Рассказывая московским друзьям о своем литературном успехе в высшем кругу, он говорит о своей скуке, желании бежать на Кавказ или хотя бы в отпуск в Москву. Во втором письме, посланном А. А. Лопухину в конце февраля или начале марта 1839 года, Лермонтов говорил о каких-то конкретных фактах, усугубивших его тяжелое настроение. "Признаюсь тебе, я с некоторого времени* ужасно упал духом..." - начинает Лермонтов, но... передавая это письмо П. А. Висковатову, Лопухины оторвали его конец.
* (Курсив мой. - Э. Г.)
5
К осени 1839 года относится эпизод, указывающий на дерзкое противодействие Лермонтова растленным обычаям царской семьи и придворного круга. Об этом происшествии глухо рассказал П. А. Висковатов в своей книге, а в позднейшем письме к Е. А. Боброву подробнее. Но так как письмо, по словам Боброва, в полном виде не подлежало опубликованию, мы знаем о его содержании только в его изложении. "Лермонтову и Столыпину- Монго, - писал он, - удалось спасти одну даму от назойливости некоего высокопоставленного лица. Последнее заподозрило в проделке Барятинского, потому что и он ухаживал за этой дамой. И личный неуспех и негодование на него высокого лица побудили Барятинского возненавидеть как Столыпина, так и Лермонтова"*. А в своей книге биограф поэта сообщил, что Столыпин в связи с этой историей вынужден был выйти в отставку. "У него была неприятность, - объяснял Висковатов,- по поводу одной дамы, которую он защитил от назойли вости некоторых лиц. Рассказывали, что ему удалось- дать ей возможность незаметно скрыться за границу (...) В этом деле Лермонтов, как близкий друг Монго, принимал деятельное участие. Смелый и находчивый, он главным образом руководил делом. Всю эту скандальную историю желали замять и придавать ей как можно меньше гласности. Но злоба к Лермонтову некоторых лиц росла. Бенкендорфу, очевидно, хотелось "добраться" до поэта (...) Его проникновение туда (в высшее общество.- Э. Г.), независимая манера держаться, да еще вмешательство в интимные дела, вызывали раздражение против него"**.
* (Известия Отделения русского языка и словесности ими. Академии наук, т. XIV, кн. 1. СПб, 1909, с. 90)
** (См. примеч. 53)
Висковатов правильно относил это происшествие ко времени, предшествовавшему конфликту Лермонтова с Барантами. Но мы можем датировать этот эпизод еще точнее.
"Высочайший" приказ об отставке Столыпина был подписан 4 ноября 1839 года. А 2 ноября Александр Иванович Тургенев ездил к А. С. Меншикову "просить за Лермонтова и за Цынского"*. Соединение двух таких несопоставимых имен, как поэт Лермонтов и московский полицмейстер Цынский, позволяет допустить, что хлопоты Тургенева были связаны с попытками переправить даму за границу. Это тем более вероятно, что, согласно документам военно-исторического архива, Цынский с 18 сентября 1839 года находился в шестимесячном отпуске в Одессе**. Оттуда дама могла воспользоваться для бегства морским путем. Не следует при этом забывать, что А. С. Меншиков был начальником Главного морского штаба.
* (ИРЛИ, ф. 309, № 319, л. 17об)
** (ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 4, св. 1200)
Ни в сообщении Боброва, ни в книге Висковатова не открыто имя дамы. Это породило в лермонтовской литературе несколько догадок. Но, так как ни одна из них пока не нашла документального подтверждения, мы не будем здесь останавливаться на них. Для нас важнее другое.
П. А. Висковатов в молодости служил чиновником для особых поручений при фельдмаршале А. И. Барятинском и часто разговаривал с ним о Лермонтове. В своей книге Висковатов намекал, что Барятинский мешал служебной карьере поэта. Зная, что военная карьера Лермонтова складывалась из сплошных гонений, мы понимаем, что Барятинский мог этому содействовать только при посредстве наследника, у которого в лермонтовское время он был адъютантом и ближайшим доверенным лицом. Отрицательные отзывы о Лермонтове исходили из былого окружения наследника даже после смерти Александра II. Так, А. В. Адлерберг, престарелый министр двора, в молодости тоже бывший адъютантом и фаворитом наследника, в 40-х годах грубейшим образом охарактеризовал Лермонтова в разговоре с отцом писателя Д. С. Мережковского. При этом Адлерберг ссылался на то, что знал поэта лично*. Это показывает, что Лермонтов имел против себя во дворце могущественную "партию" - партию наследника. Все это свидетельствует о той борьбе, которая велась в царской семье вокруг замечательного поэта. Это станет еще яснее, если мы перечтем письмо Николая I о "Герое нашего времени" (в новом переводе с подлинника).
* (Мережковский Д. С. М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества. СПб., Пантеон, 1909, с. 24)
6
Царь взял с собой книгу Лермонтова, прощаясь с больной женой в Эмсе. В сопровождении Бенкендорфа и Орлова 12 июня 1840 года он сел на пароход "Богатырь", доставивший его в Петергоф. 12(24) июня Николай начал свое письмо к императрице и продолжал его во все время плавания.
13(25) июня - первое упоминание о романе Лермонтова: "Я работал и читал всего Героя, который хорошо написан. Потом мы пили чай с Орловым и болтали весь вечер; он неподражаем".
Утром 14(26) июня путешественник вновь приступил к чтению. В три часа дня царь пишет: "Я работал и продолжал читать сочинение г. Лермонтова. Второй том я нахожу менее удачным, чем первый. Погода стала великолепной, и мы могли обедать на верхней палубе. Бенкендорф ужасно боится кошек, и мы с Орловым мучим его - у нас есть одна на борту. Это наше главное времяпрепровождение на досуге".
В семь часов вечера роман был дочитан. "За это время, - пишет Николай, - я дочитал до конца Героя и нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойной быть в моде. Это то же самое изображение презренных и невероятных характеров, какие встречаются в нынешних иностранных романах. Такими романами портят нравы и ожесточают характер. II хотя эти кошачьи вздохи читаешь с отвращением, все-таки они производят болезненное действие, потому что в конце концов привыкаешь верить, что весь мир состоит только из подобных личностей, у которых даже хорошие с виду поступки совершаются не иначе как по гнусным и грязным побуждениям. Какой же это может дать результат? Презрение или ненависть к человечеству! Но это ли цель нашего существования на земле? Люди и так слишком склонны становиться ипохондриками или мизантропами, так зачем же подобными писаниями возбуждать или развивать такие наклонности! Итак, я повторяю, по-моему, это жалкое дарование, оно указывает на извращенный ум автора. Характер капитана набросан удачно. Приступая к повести, я надеялся и радовался тому, что он-то и будет героем наших дней, потому что в этом разряде людей встречаются куда более настоящие, чем те, которых так неразборчиво награждают этим эпитетом. Несомненно, кавказский корпус насчитывает их немало, но редко кто умеет их разглядеть. Однако капитан появляется в этом сочинении как надежда, так и не осуществившаяся, и господин Лермонтов не сумел последовать за этим благородным и таким простым характером; он заменяет его презренными, очень мало интересными лицами, которые, чем наводить скуку, лучше бы сделали, если бы так и оставались в неизвестности - чтобы не вызывать отвращения. Счастливый путь, г. Лермонтов, пусть он, если это возможно, прочистит себе голову в среде, где сумеет завершить характер своего капитана, если вообще он способен его постичь и обрисовать"*.
* (ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1904, л. 14, Моб., 11, 11 об., 12 (листы в архиве неправильно пронумерованы). Первая публикация в немецком переводе - см.: Schiemann Тhеоdог. Geschichte Russlands unter Kaiser Nicolaus I, Bd. Ill, 1913, S. 411. В русском переводе - см.: Тарле Е. В. Теодор Шиман, кн. II. Дела и дни, 1921, с. 189; Эйхенбаум Б. М. Лермонтов и Николай I. - Литературный критик, 1940, № 2, с. 33.
Ввиду важности письма Николая I о Лермонтове, данного в этой книге в новом переводе, приводим его в подлиннике: "(13/25) а 10 1/2.
...J'ai travaille et lu tout le Герой, qui est joliment e;crit. Puis nous avons pris le the avec Orlof, et cause toute la soiree; il est unpayable. ..
Le 14/26 ...a 3 h. Depuis tantot j'ai travaille et continue a lire l'ouvrage de Лермонтов, je trouve le second volume moins joli que le premier. Le temps est devenu superbe et nous avons pu diner sur le tillac. Benkendorf a peur horrible des chats et nous en avons un a bord avec lequel Orlof et moi nous le tourmentons, ce qui fait un de nos passeternps d'oisivete.
.. .a 7 h. .. .Depuis tantot j'ai lu et fini le Герой. Je trouve le second volume detestable et tout a fait digne d'etre a la mode, car c'est la meme peinture de caracteres meprisables, exageres que l'on rencontre dans les romans etrangers du jour. C'est avec ces romans-la que l'on gate les moeurs et fausse les caracteres, et quoique l'on liseces soupirs de chats avec degout, ils laissent toujours une impulsion pe- nible, car l'on finit par s'habituer a croire que le monde n'est compose que d'individus pareils, ou les meilleures actions en apparence ne provien- nent que d'abominables ou sals motifs: quel en doit done etre le resultat? - le mepris ou la haine de l'humanite. Est-ce done la le but de l'existence icibas? - L'on n'est que trop porte a etre hypochondre ou misanthrope a quoi bon done, par des peintures semblables developper ou exciter des dispositions pareilles? - je repete done que selon moi c'est un pitoyable talent et denote dans l'auteur une grande depravation d'esprit. Le ca- ractere du Capitaine est joliment ebauche en commen^ant I'histoire j'esperais et me rejouissais que lui probablement etait le heros de nos temps, car il у en a dans cette classe de bien plus veritables que ceux que l'on gratifie trop vulgairement de cette epithete. Le Corps du Caucase en compte surement beaucoup - que l'on n'apprend que trop rarenient a connaitre; mais il parait dans l'ouvrage comrne un espoir non realise et Mr Lermontoff n'a pas su saivre ее noble et si simple caractere, et remplace eet individu par des miserables et fort peu inte- ressants personnages qui s'ils ont ennuye auraient mieux faits de resler ignores pour ne pas provoquer le degout. Bon voyage a Mr Lermontoff, il n'a qu'a purifier la tete, si c'est possible, au mielieu d'une sphere ou il trouvera a aehever son caractere de Capitaine si toutefois il est jamais capable de le saisir et de pouvoir le depeindre. - Nous avons pris le the avec Orlof et me voila" )
Немецкий историк Т. Шиман, получивший доступ к рукописям из библиотеки Зимнего дворца еще при самодержавии, не мог перевести с должной точностью письмо Николая I о Лермонтове. Нельзя было предать гласности грубое сравнение дневника Печорина с кошачьими стенаниями, скуку царя при чтении "Княжны Мери" и "Фаталиста"- произведений, давно вошедших в золотой фонд художественной литературы. В 1913 году, когда вышла книга Шимана, двору было бы уже неловко читать такие эпитеты царского письма, как "грязные" побуждения лермонтовских персонажей или самодовольный приговор самодержца о русском классике - "жалкое дарование". Последнее выражение - "pitoyable talent" - Шиман прочел как "pitoyable livre" (жалкая книга) и поэтому слова "я повторяю" понял как усиление и подтверждение предшествующего отзыва о "Герое нашего времени". Но теперь, когда мы знаем, что во дворце еще раньше читали "Демона", мы понимаем, что спор между царем и царицей о литературном значении Лермонтова велся уже давно.
Царицу чрезвычайно взволновала дуэль Лермонтова с Барантом. "Лермонтов и Монго Столыпин все еще ждут суда, - пишет она сыну. - Печальная история эта дуэль, она доставит тебе огорчение; молодой Барант уже уехал в Париж"*.
* (ЦГАОР, ф. 678, оп. 1, № 737; л. 5об. - 6. Перевод с фр)
Видимо, императрица опасалась, что вынужденный отъезд из России сына французского посла произведет неприятное впечатление при немецких дворах, куда наследник направился для обручения с принцессой Дармштадтской. "Вы, конечно, слышали толки о дуэли между г. Лермонтовым и молодым Барантом? - пишет она Бобринской 11 марта 1840 года. - Я очень этим встревожена"*. Этой записке предшествовал долгий разговор с Екатериной Тизенгаузен. "...вдвоем с Катрин, - записывает императрица в дневнике 11 марта. - Много говорили о дуэли между Лермонтовым (гусаром) и молодым Барантом не (нрзб.)"**.
* (Там же, ф. 851, оп. 1, № 17, л. 2об. Перевод с фр)
** (Т а м же, ф. 672, оп. 1, № 416, л. 51об. Перевод с нем)
Из этих беглых фраз не видно, на чьей стороне было сочувствие императрицы - семейства Барантов или Лермонтова. Но в эти же дни она заносит в маленькую записную книжку строки из стихотворения Лермонтова. Они служат как бы эпиграфом к страничке, начатой между 12-21 марта и посвященной каким-то интимным переживаниям императрицы. Воспроизведем текст этой странички:
В минуту жизни трудную Теснится в сердце грусть. Ум за разум Я и он (по-французски) Пятница 21 марта (по-французски) Доводы сердца не всегда разумны (по-французски) Я в постоянном размышлении о том, что вы значите для меня (по-французски). 28 апреля (по-французски)* * (Там же, № 432, л. 26 )
Не случайно выписаны императрицей строки из "Молитвы". Она опять возвращается к этому стихотворению летом 1840 года, когда лечится в Эмсе. Строки Лермонтова подходят к ее настроению, подавленному из-за болезни, разлуки с семьей и свежей утраты - смерти отца, прусского короля Фридриха-Вильгельма III.
Одну молитву чудную Твержу я наизусть, -
записывает она 23 июля*. В это время императрица уже получила от Николая I письмо с резким отзывом о "Герое нашего времени". "Ты находишь, что я правильно оценил сочинение Лермонтова", - пишет царь жене 1 июля. Но вряд ли это согласие Александры Федоровны с приговором мужа было искренним. Если Николай безапелляционно нашел талант Лермонтова "жалким", то религиозная императрица видела залог спасения от "сатанинских" искушений автора "Демона" и "Героя нашего времени" в таких произведениях, как "Молитва". Доказательством этого служит выход в свет романса "Молитва" в феврале 1841 года. Слова Лермонтова были положены на музыку Феофилактом Толстым, придворным композитором, постоянным посетителем литературно-музыкальных вечеров императрицы**.
* (Там же, л. 28об)
** (Эйгес И. Музыка в жизни и творчестве Лермонтова. - Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 511)
Николай и Бенкендорф следили за печатными выступлениями поэта. Доказательством этому служит негодование, возбужденное стихотворением "1-е января". Вряд ли прошло незамеченным стихотворение "Памяти А. И. О-го", напечатанное в декабрьской книге "Отечественных записок" 1839 года и оплакивающее смерть А. И. Одоевского, одного из "друзей по 14 декабря" Николая I. "Думу", "Поэта", "И скучно и грустно" царь понимать не мог и, вероятно, находил не менее скучными, чем дневник Печорина. Но во всей печатающейся в "Отечественных записках" лирике Лермонтова он инстинктивно чувствовал враждебную и не подчиняющуюся ему силу.
Начало письма Николая к императрице (опущенное Шнманом) позволяет догадываться об участии в обсуждении "Героя" Бенкендорфа. Дурачась на борту "Богатыря", шеф жандармов сумел, видимо, поделиться с Николаем своим взглядом на творчество Лермонтова. Этот вывод поддерживается сходством царского письма с давним отзывом цензуры III Отделения о "Маскараде", где драма молодого писателя сравнивалась с французскими "романами ужасов". В 1835 году цензор Ольдекоп писал: "Желать, чтобы у нас были введены чудовищные драмы, от которых отказались уже и в самом Париже, - это более, чем ужасно, этому нет названья". Если по содержанию этот инспирированный Бенкендорфом отзыв напоминает позднейшее письмо Николая о "Герое нашего времени", то по стилю он родствен собственноручной записке Бенкендорфа к царю о стихах Лермонтова на смерть Пушкина: "Вступление к этому сочинению дерзко, а конец - бесстыдное вольнодумство, более чем преступное"*.
* (См. примеч. 31 и 37)
В 3 часа дня 14 июня 1840 года царь сообщает царице, что утром он читал "Княжну Мери" и "работал", то есть занимался делами с Бенкендорфом. После обеда дурачились с кошкой и читали "Героя нашего времени". Тут и родилось уподобление мыслей и страстей Печорина кошачьим серенадам. Глумление над героем лермонтовского романа пропитано личной ненавистью к автору и Бенкендорфа и царя.
Мы знаем из письма госпожи Барант, что Бенкендорф не хотел допустить приезда Лермонтова в столицу в 1841 году, имея намерение предоставить ему отпуск во "внутреннюю Россию". Николай, однако, разрешил Лермонтову приехать в Петербург. Лицемерие деспота теперь уже хорошо известно. Изучена его излюбленная общая тактика - держать подозреваемых им лиц в наибольшей близости к себе, чтобы постоянно иметь их под рукой для пристального наблюдения. Немаловажную роль в проявленной по отношению к Лермонтову мягкости играло нежелание возбуждать общественное мнение, которое так неожиданно заявило о себе в незабываемые дни проводов тела Пушкина. Эта скрытая игра обманула многих современников и биографов Лермонтова. Не было замечено, например, что первый же инцидент по приезде поэта в Петербург в 1841 году был связан с самим Николаем.
В конце февраля Лермонтов писал А. И. Бибикову из Петербурга (т. VI, с. 457-458):
"Скоро еду опять к вам, и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот такие беды: приехав сюда в Петербург на половине масленицы, я на другой же день отправился на бал к г(рафине) Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким"*.
* (Исправляю неточность в транскрипции начертания Лермонтова "Г. Воронцовой". Обычно печатается "госпоже Воронцовой", нужно "графине Воронцовой", так как в письмах титул в то время обозначался прописной буквой и точкой. Проверено по подлиннику)
Упомянутый эпизод был обыгран мемуаристами с большими неточностями. В. А. Соллогуб относил его к предыдущему году, связывая с высылкой Лермонтова за дуэль с Барантом, а М. Н. Лонгинов отодвинул к самому концу пребывания Лермонтова в Петербурге в 1841 году. К тому же М. Н. Лонгинов приписывал главную роль в этом эпизоде П. А. Клейнмихелю. Эту же версию принял П. А. Висковатов, который, впрочем, добавлял, что Клейнмихель действовал по настояниям Бенкендорфа. В таком же виде версия о последней высылке Лермонтова перешла в комментарии к письмам Лермонтова в советских изданиях. Но это плод недоразумения. Клейнмихель по занимаемой им должности дежурного генерала Главного штаба был только непосредственным исполнителем "высочайшей" воли. Не был он также компетентен в решении вопроса о том, какие балы было разрешено посещать Лермонтову. Правда, Соллогуб вспоминал с красочными подробностями, что недоволен встречей с Лермонтовым на балу у Воронцовой-Дашковой был Михаил Павлович. Однако дело обстояло не так.
Масленичный бал у графа Воронцова-Дашкова в 1841 году был устроен 9 февраля. Собираясь туда, М. А. Корф записал в своем дневнике: "Сегодня - масляничное воскресенье - folle journee празднуется в первый раз у гр. Воронцова. 200 человек званы в час; позавтракав, они тотчас примутся плясать и потом будут обедать, а вечером в 8 часов в подкрепление к ним званы еще 400 человек, которых ожидают, впрочем, только танцы, карты и десерт, ужина не будет, как и в других домах прежде в этот день его не бывало"*.
* (ЦГАОР, ф. 728, on. 1, № 1817, т. IV, л. 97об)
Программа придворного бала в точности совпадает с распорядком дня на таком же балу, устроенном во дворце в 1834 году. Пушкин описал этот бал в своем дневнике: "Избранные званы были во дворец на бал утренний, к половине первого. Другие на вечерний, к половине девятого. Я приехал в 9. Танцовали мазурку, коей оканчивался утренний бал. Дамы съезжались, а те, которые были с утра во дворце, переменяли свой наряд. Было пропасть недовольных: те, которые званы были на вечер, завидовали утренним счастливцам"*.
* (Пушкин А. С. Поли. собр. соч. в 16-ти томах, т. XII, с. 320)
Лермонтов, конечно, был зван не на парадный обед, куда ждали наследника и Михаила Павловича, а - так же, как Пушкин в 1834 году и Корф в 1841 году, - на вечер. Этот вечер описан Корфом 10 февраля:
"На вчерашнем вечернем бале Воронцова был большой сюрприз и для публики, и для самих хозяев,- именно появление императрицы, которая во всю нынешнюю зиму не была ни на одном частном бале. Она приехала в 9 часов, и, уезжая в 11, я оставил ее еще там. Впрочем, она была только зрительницею, а не участницею танцев. Государь приехал вместе с нею. Оба великие князя были и вечером и утром"*.
* (См. примеч. 68, л. 98)
Итак, поэт был замечен среди других шестисот приглашенных на том придворном балу, куда неожиданно явилась императрица в сопровождении императора.
"Кабы знал, где упасть, соломки бы подостлал",- писал по этому поводу Лермонтов Бибикову.
Ясно, что сам Николай настиг Лермонтова своим "орлиным взором" и сделал замечание Михаилу Павловичу. Личное раздражение играло большую роль у Николая Павловича при решении судеб своих подданных. Когда в скором времени до него дошли наградные списки кавказских офицеров за летнее сражение при Валерике, царь собственноручно вычеркнул Лермонтова.
Лермонтов не мог не знать, кто лишил его награды, однако, сообщая об этом Бибикову, употребил безличную форму: "Из Валерикского представления меня здесь вычеркнули". Так же, как и в фразе "это нашли неприличным и дерзким", Лермонтов имел в виду Николая I, которого нельзя было называть в письме. Эту аналогию следует распространить и на последнее письмо Лермонтова к Е. А. Арсеньевой из Пятигорска (28 июня): "То, что вы мне пишете о словах г. Клейнмихеля, я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, если я подам: он только просто не советует; а чего мне здесь еще ждать? - Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам" (т. VI, с. 461). И в этом случае Лермонтов имел в виду Николая I, и только Николая I, так как ни один офицер из гвардейских в то время не мог выйти в отставку без "высочайшего соизволения". Краевский и Соллогуб называли инициатором последней высылки Лермонтова Клейнмихеля только потому, что не смели назвать истинного ее виновника.
А. А. Краевский сообщал, что в Петербурге Лермонтов еще твердо надеялся на отставку. Откуда у поэта могла быть такая уверенность?
Тут нам помогут некоторые впервые установленные даты прохождения его дела "по прошению Е. А. Арсеньевой", начатого в военном министерстве 11 декабря 1840 года. По описи (само дело не сохранилось) значится, что датой окончания этого дела было 21 февраля 1841 года. Очевидно, это было предписание Лермонтову выехать обратно в полк 9 марта, о чем он и писал Бибикову. Однако просьбы об отсрочке сделали свое, первоначальная дата окончания дела зачеркнута в описи, и вместо нее появилась помета: "Закончено 31 марта". В этот день было послано два "ответа", как сказано в описи: №№ 2670 и 2671*. Очевидно, один ответ был послан для исполнения по инстанциям, а другой - Лермонтову. Ему был указан окончательный срок возвращения - вероятно, скорый. Но Лермонтов медлил, чего же он ждал?
* (ЦГВИА, ф. 395, оп. 31 инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 2, св. 2149. Ср.: Герштейн Э. Г. К истории высылки Лермонтова из Петербурга в 1841 году. - В сб.: Михаил Юрьевич Лермонтов. Ставрополь, 1960, с. 181 -182)
16 апреля, в день бракосочетания наследника, ожидались большие "милости". Зная это, В. А. Жуковский обращался неоднократно с просьбами о прощении Лермонтова. Это очень подробно документировано в одной из новых публикаций М. И. Гиллельсона "Последний приезд Лермонтова в Петербург"*. 24 марта Жуковский передал императрице письмо бабушки Лермонтова. Ответ неизвестен, но, как мы знаем, 31 марта поэт не уехал и, судя по всему, был уверен, что попадет под амнистию. 11 и 13 апреля в дневник Жуковского внесены черновики его обращения к наследнику. Жуковский горячо убеждал его заступиться лично перед царем за декабристов, Герцена и Лермонтова. В просьбе о Герцене, видимо, отказал сам наследник. А Лермонтов в этот же день уже прощался с друзьями: накануне он неожиданно получил предписание в течение двух суток покинуть Петербург. По всей вероятности, император, узнав из обращенных к нему просьб, что Лермонтов еще здесь, пришел в ярость.
* (Звезда, 1977, № 3)
Лермонтов уехал 14 апреля, а 17 была объявлена амнистия, так же как награждения и повышения по случаю свадьбы наследника. Арсеньева пришла в отчаяние, не видя там имени своего внука: они оба еще продолжали надеяться. 18-го она обращается к Жуковскому (через С. Н. Карамзину), умоляя его напомнить императрице: ". . .попросите Василия Андреевича напомнить государыне, вчерашний день прощены: Исаков, Лихачев, граф Апраксин и Челищев; уверена, что и Василий Андреевич извинит меня, что я его беспокою, по сердце мое растерзано. .."*
* (Модзалевский Л. Письма Е. А. Арсеньевой о Лермонтове.- Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 656-659)
"Как же так? - читается между строк, - ведь было обещано!" И Жуковский опять говорил 20 апреля с императрицей. Безуспешно!
В тот же день П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу:
"Лермонтов был здесь и опять отправился на Кавказ не по новой причине, а все по прежней"*.
* (ИРЛИ, ф. 109, № 4715, л. 122)
Да. Нового обвинения Лермонтову не было предъявлено. Но в конце июня, когда царь узнал, что во время прошлогодней осенней экспедиции Лермонтову была предоставлена возможность командовать казачьей сотней Охотников, он уже не скрывал своей ярости. "Зачем не при своем полку? Велеть непременно быть налицо во фронте и отнюдь не сметь под каким бы то ни было предлогом удалять от фронтовой службы при своем полку", - надписал он на рапорте командующего Отдельным кавказским корпусом, вторично отказывая Лермонтову в награде*. Этим повелением царь отказывал Лермонтову в выслуге - мера, которая применялась к самым опасным или государственным преступникам.
* (ЦГВИА, ф. 395, оп. 147/455, № 223, ч. 1, л. 74)
Царский гнев обращался не только на ненавистного ему поэта, но и на тех, кто осмеливался ему покровительствовать. Распекающая резолюция Николая I, очевидно, произвела переполох среди кавказского военного командования. По крайней мере, П. А. Висковатов обронил в своей книге фразу о том, что П. X. Граббе имел большие неприятности за попустительство Лермонтову. После смерти поэта это было уже бессмысленно. Между тем П. И. Бартенев утверждал, что официальная бумага Клейнмихеля, излагающая 30 июня содержание резолюции Николая о Лермонтове, пришла на Кавказ уже после дуэли. Действительно, путь между Петербургом и Пятигорском был длинным. Так, официальные извещения о смерти Лермонтова поспели в столицу только на семнадцатый день после события. Однако в Москве о нем узнали еще 26 июля, из частного письма. Кавказские начальствующие лица были связаны разными нитями со многими петербургскими сановниками и канцеляриями, они тоже могли услышать об угрожающей им резолюции Николая еще до дуэли. Нельзя не сопоставить эти факты с неожиданным вызовом Мартынова 13 июля. Безмерно самолюбивый майор был умело доведен кем-то до крайнего раздражения.
7
Когда известие о гибели Лермонтова пришло 2 августа в Петербург, обнаружилась вся сила ненависти к поэту не только Николая, но и всего двора. Так, узнав об участии своего сына в пятигорской дуэли, князь И. В. Васильчиков сказал 5 августа М. А. Корфу: "Не буду, конечно, скрывать, что я опечален происшествием, но наиболее тем, что сын мой мог состоять в тесной связи с таким человеком, каков был Лермонтов, sans foi ni loi"***.
* (Без стыда и совести (фр.))
** (ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1817, т. IV, л. 249об. - 250)
В словах ближайшего фаворита Николая отразился взгляд на жизнь и личность поэта, прочно установившийся при дворе. В рукописных материалах к биографии председателя Государственного совета И. В. Васильчикова Корф пользовался выписками из своего дневника и расшифровал смысл фразы о Лермонтове. "Но наиболее огорчило оно меня в том, - передает он по-новому реплику своего начальника, - что сын мой мог состоять в тесной связи с Лермонтовым - человеком, который, по общему отзыву, не имел ни правил, ни религии, ни высшего нравственного чувства; правда, он имел зато талант, который действует так обаятельно на молодых людей, и мог увлечь и моего молодца"*.
* (Там же, № 1826, л. 39об)
15 августа П. А. Плетнев услышал "некоторые подробности о дуэли Лермонтова" от попечителя Петербургского университета князя М. А. Дондукова-Корсакова, тоже осудившего поэта. Он навел Плетнева на мысль, что Лермонтов "не дорожил жизнию и не нашел в ней источника высшей деятельности"*. Это почти то же, что и слова Васильчикова об отсутствии у Лермонтова "высшего нравственного чувства". Поэт, пафос творчества которого заключался, по определению Белинского, в "нравственных вопросах современности", был заклеймен великосветскими развратниками как человек без высоких моральных идеалов. "Его смерть - событие весьма горестное, так как с ним ушел в могилу и его блестящий талант, но вся его жизнь доказывает, что правительство было совершенно право, когда удалило его из Петербурга: остается только пожалеть, что стремление к добру не преобладало в его моральном облике, ни в его литературной деятельности"**. Так вбивал осиновый кол в могилу Лермонтова Н. И. Греч, написавший по заказу III Отделения и самого Николая ответ на книгу Кюстина "Россия в 1839 году". "Гречеправительственная книга", по словам Герцена, показавшая "все расстояние между народом и Петербургом", была издана на французском языке в Париже в 1844 году.
* (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I. СПб, 18%, с. 376)
** (Examen de l'ouvrage intitule "La Russie en 1839" par le marquis de Custine, par N. Gretsch... Paris, 1844, p. 68)
Ненависть Николая I к поэту мы можем угадать и в беседе царя с И. В. Васильчиковым 8 августа 1841 года. 12-го Корф записал в своем дневнике: "Князь Васильчиков виделся с государем и остался очень доволен результатом аудиенции в отношении к своему сыну... Между тем, быв сегодня у князя, я нашел перед ним раскрытым на столе роман Лермонтова "Герой нашего времени". Князь вообще читает очень мало, и особенно по-русски; вероятно, эта книга заинтересовала его теперь только в психологическом отношении: ему хочется ближе познакомиться с образом мыслей того человека, за которого приходится страдать его сыну"*.
* (См. примеч. 76, л. 259)
Первый государственный сановник, открывающий книгу Лермонтова после царской аудиенции, - эта зарисовка с натуры говорит о многом. Очевидно, разговаривая с Васильчиковым о смертельной дуэли поэта, царь повторил ему свою прошлогоднюю оценку "Героя нашего времени". Вряд ли он стеснялся в выражениях. Вот почему Васильчиков-сын впоследствии так уверенно передал в печати слова "одной высокопоставленной особы" об убитом Лермонтове: "Туда ему и дорога". (Фраза "Собаке - собачья смерть" с прямым указанием на авторство Николая распространилась еще в 40-х годах со слов зятя И. В. Васильчикова - флигель-адъютанта И. Д. Лужина*.)
* (Вяземский П. П. Собр. соч. СПб, 1893, с. 643)
Вспомним также известный рассказ редактора "Русского архива". "Государь по окончании литургии, - пишет П. И. Бартенев в 1911 году, - войдя во внутренние покои кушать чай со своими, громко сказал: "Получено известие, что Лермонтов убит на поединке". - "Собаке - собачья смерть!" Сидевшая за чаем великая княгиня Мария Павловна (Веймарская, "жемчужина семьи")... вспыхнула и отнеслась к этим словам с горьким укором. Государь внял сестре своей (на десять лет его старше) и, вошедши назад в комнату перед церковью, где еще оставались бывшие у богослужения лица, сказал: "Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит". Слышано от княгини М. В. Воронцовой, бывшей тогда еще замужем за родственником Лермонтова А. Г. Столыпиным"*.
* (Русский архив, 1911, № 9, с. 160)
Но почему, описывая эту сцену, М. В. Столыпина умолчала об отношении к поэту императрицы? Не могла же она не знать о сильном впечатлении, произведенном на нее смертью Лермонтова. На это есть указание в дневнике императрицы 7 августа 1841 года: "Гром среди ясного неба. Почти целое утро с великой княгиней, стихотворения Лермонтова..."* А отплывая 12 августа домой на пароходе "Богатырь", веймарская меценатка везла с собой две книги - "Стихотворения" и "Героя нашего времени". "Подарок, которым Вы меня удостоили - сочинения Лермонтова - сам по себе был для меня слишком дорог, чтобы я не могла не предпочесть в нашем путешествии это чтение всякому другому, - писала Мария Павловна императрице уже из Потсдама 23 августа старого стиля. - Из его стихотворений лучшими в сборнике я нахожу одно под названием "Тучи" и еще две пьесы. .."**
* (ЦГАОР, ф. 672, оп. 1, № 417, л. 32об. Перевод с нем)
** (Там же, ф. 728, оп. 1, ч. I, № 981; ч. III, л. 31- 31об. Перевод с фр)
Знал ли Николай, провожая вместе с Михаилом Павловичем великую княгиню до Толбухина маяка, что она везет с собой подарок его жены? В это утро царь подписал "высочайший приказ" об исключении из списков офицеров умерших поручика Тенгинского пехотного полка Лермонтова и капитана Жерве*, умершего от полученных на Кавказе ран**.
* (См. главу "Кружок шестнадцати")
** (Русский инвалид, 1841, 26 августа, № 99)
В тот же день императрица писала С. А. Бобринской:
"Вздох о Лермонтове, об его разбитой лире, которая обещала русской литературе стать ее выдающейся звездой.
Два вздоха о Жерве, о его слишком верном сердце, этом мужественном сердце, которое только с его смертью перестало биться для этой ветреной Зинаиды"*.
* (ЦГАОР, ф. 851, оп. 1, № 18, л. 106об. - 107. Перевод с фр. "Зинаида" - княгиня 3. И. Юсупова (ур. Нарышкина), жена кн. Н. Б. Юсупова)
В письме из Потсдама Мария Павловна осторожно подсказывает императрице правильное суждение о романе и стихах Лермонтова. "Читая эти сочинения, я часто спрашивала себя, каково было Ваше мнение о том или другом месте, и позволяла себе его угадывать", - заканчивает она свой разбор "Героя нашего времени". Но вряд ли литературные вкусы великой герцогини Саксен-Веймарской совпали в этом случае с пристрастиями ее "высокой сестры". В то время как императрица с непонятным упорством перечитывает и обдумывает роман Лермонтова, отзыв Марии Павловны, по существу, не отличается от оценки, сделанной ее царствующим братом. Прислушаемся к ее словам:
"Его роман отмечен талантом и даже мастерством, но если и не требовать от произведений подобного жанра, чтобы они были трактатом о нравственности, все- таки желательно найти в них направление мыслей или намерений, которое способно привести читателя к известным выводам. В сочинении Лермонтова не находишь ничего, кроме стремления и потребности вести трудную игру за властвование, одерживая победу посредством своего рода душевного индифферентизма, который делает невозможной какую-либо привязанность, а в области чувства часто приводит к вероломству. Это - заимствование, сделанное у Мефистофеля Гете, но с тою большой разницей, что в "Фаусте" диавол вводится в игру лишь затем, чтобы помочь самому Фаусту пройти различные фазы своих желаний, и остается второстепенным персонажем, несмотря на отведенную ему большую роль. Лермонтовский же герой, напротив, является главным действующим лицом, и, поскольку средства, употребляемые им, являются его собственными и от него же и исходят, их нельзя одобрить".
Мария Павловна, под эгидой которой в Веймаре спокойно жил и творил великий Гете, увидела в Печорине только слепок с Мефистофеля. Николай Павлович сравнивал "Героя нашего времени" с современными иностранными романами и воспользовался этим случаем, чтобы лишний раз засвидетельствовать свою ненависть к "молодой Франции". Михаил Павлович, читая "Демона", выразил на своем грубом языке общее отношение членов царствующей фамилии к личности и творчеству поэта: "Был у нас итальянский Вельзевул, английский Люцифер, немецкий Мефистофель, теперь явился русский Демон, значит, нечистой силы прибыло. Только я никак не пойму, кто кого создал: Лермонтов ли духа зла, или же дух зла - Лермонтова"*.
* (Мартьянов П. К. Дела и люди века, т. III. СПб., 189G, с. 88)
В этой плоской остроте отразилось общее непонимание самобытного значения русской литературы, характерное для всей царствующей фамилии. Грубо интерпретировал также великий князь ханжеские рассуждения царя о высшей нравственной цели, якобы отсутствующей у Лермонтова. Нечего и говорить, что уподобление поэта "духу зла" согласовалось с общим отношением к Лермонтову всех членов царской семьи.
Несмотря на свое несомненное культурное превосходство над братьями, веймарская герцогиня тоже отказалась увидеть в "Герое нашего времени" положительное начало.
Исключением явилась только Александра Федоровна. Это тем более странно, что в своих оценках других русских писателей она не отступала от тривиальных нравственно-религиозных и политических требований, предъявляемых к литературе монархической властью. Так, даже над гробом Пушкина императрица не смогла не попрекнуть его "сатанизмом" в духе Байрона. В 1842 году она отрицательно отнеслась к "Мертвым душам", негодуя на резкую критику русских административных нравов и опасаясь неблагоприятного впечатления за границей в случае перевода поэмы Гоголя на иностранные языки*. Не было у нее также увлечения новой фран цузскои литературой, хотя она и была ее усердной читательницей. Аналитический роман Шарля Бернара, несомненно учтенный Лермонтовым при создании "Княжны Мери", вызвал, например, ее возмущение: "Жерфо! - восклицает она в письме к Бобринской 1840 года. - Какой ужасный конец! Что за человек! Какая расчетливость в глубине этой деланной страсти! Я возмущена этой книгой, но прочитать ее надо"**. Почему же аналитическая исповедь Печорина, имеющего много родственных черт с героем романа Бернара, так интересовала императрицу? Трудно найти прямой ответ на этот вопрос.
* (ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1817, т. V, л. 304-305)
** (Там же, ф. 851, оп. 1, № 17, л. 21 об. Перевод с фр. Сопоставление романа Шарля де Бернара "Жерфо" с "Героем нашего времени" впервые сделано Б. Томашевским в его статье "Проза Лермонтова и западноевропейские традиции" (Литературное наследство, 1941, № 43-44, с. 502-507))
8
Первые сведения о смерти Лермонтова содержали в себе "ужасные", по словам Ю. Ф. Самарина, "подробности". Очевидцы уверяли, что Мартынов застрелил Лермонтова, нарушив все дуэльные правила. Фраза "убийство, а не дуэль" не сходила с языка взволнованных современников до тех пор, пока власти не приняли мер и не распространили другую, официальную, версию о поединке Лермонтова с Мартыновым. В толках о событии указывались разные мотивы, руководившие убийцей поэта. Большинство искало причины ссоры в личных взаимоотношениях противников. Совсем другое направление приняла беседа П. А. Вяземского с одним из царедворцев, которая происходила 4 августа 1841 года в Царском Селе. Содержание этого разговора передано в известных строках из "Старой записной книжки" П. А. Вяземского. Они часто цитируются, но не становятся от этого понятнее.
"По случаю дуэли Лермонтова, - писал Вяземский, - князь Алек. Ник. Голицын рассказывал мне, что при Екатерине была дуэль между Голицыным и Шепелевым. Голицын был убит, и не совсем правильно, по крайней мере, так в городе говорили и обвиняли Шепелева. Говорили также, что Потемкин не любил Голицына и принимал какое-то участие в этом поединке"*.
* (Вяземский П. А. Записные книжки (1813-1848). М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 274)
Известие о гибели Лермонтова не было случайным поводом для исторических воспоминаний старого царедворца. Дуэль Голицына и Шепелева была известным и часто поминаемым в дворцовых кулуарах трагическим и позорным эпизодом. Еще задолго до пятигорской трагедии А. И. Тургенев касается не совсем ясных в его записи подробностей этой кровавой интриги, ссылаясь в своем дневнике на рассказы того же А. Н. Голицына: "Екатерина и Панин. Смерть к. Голицына - Шепелевым (кн. Прозоровская, его невеста, любила до смерти). В Зимнем дворце Шепелев шпагой задевает ее, она увидела и уехала (со слов кн. Волконской)" (26 августа 1839 г.)*.
* (ИРЛИ, ф. 309, № 319, л. 4)
Пушкин писал об этом же эпизоде в "Замечаниях о бунте" Пугачева еще в 1834 году:
"Князь Голицын, нанесший первый удар Пугачеву, был молодой человек и красавец. Императрица заметила его в Москве на бале (в 1775) и сказала: "Как он хорош! настоящая куколка". Это слово его погубило. Шепелев (впоследствии женатый на одной из племянниц Потемкина) вызвал Голицына на поединок и заколол его, сказывают, изменнически. Молва обвиняла Потемкина"*.
* (Пушкин А. С. Поли. собр. соч. в 16-ти томах, т. 9, кн. 1. М., с. 373-374)
Голицын и Волконская хорошо помнили эту преступную дворцовую интригу XVIII века, Пушкин и Тургенев знали о ней и оценивали как исторический материал, разоблачающий подлые нравы самодержавия. Вяземскому незачем было вновь излагать это происшествие, если бы он не хотел зафиксировать, что А. Н. Голицын сравнивал предательское убийство екатерининского генерала с гибелью Лермонтова. Находясь на расстоянии более тысячи верст от места катастрофы, Голицын и Вяземский толковали, следовательно, о том, что в кавказской дуэли косвенно принимало участие лицо, равное по могуществу Г. А. Потемкину - морганатическому мужу Екатерины II. Запись Вяземского намекает на прямую аналогию между положением генерала Голицына, имевшего несчастье понравиться императрице, и опального поэта, привлекшего к себе внимание Александры Федоровны. Параллель не покажется слишком смелой, если перенести внимание с автора "Записной книжки" на его собеседника.
Князь Александр Николаевич Голицын известен в русской истории своим мракобесием, особенно в ту пору, когда он был министром духовных дел и просвещения в правительстве Александра I и создателем реакционного Библейского общества. Менее известно, что престарелый царедворец был также ближайшим доверенным лицом Николая I. Голицын пользовался исключительным правом входа к царю без доклада. Ему поручался надзор за царскими детьми во время отсутствия "августейших" родителей. Его советами Николай пользовался при выборе чтения. В 1840 году Голицын участвовал в духовных песнопениях, устраиваемых Николаем I на "собственной даче" великой княгини Марии Николаевны в специфической обстановке: кроме названных лиц, известной святоши Потемкиной и двух-трех фрейлин, туда никто не имел доступа. Таким образом, Голицын, начавший свою придворную карьеру еще при Екатерине, до тонкости знал интимную жизнь двора Николая I. 8 августа 1841 года, когда царь говорил с И. В. Васильчиковым об участи его сына, он дал также аудиенцию Бенкендорфу, Чернышеву и А. Н. Голицыну*.
* (ЦГИА, ф. 516, оп. 120/2322, № 185, л. 22об)
Доживая свой век, Голицын занимал должность начальника почтового департамента, где завел параллельно с III Отделением систему перлюстрации корреспонденции. По этому поводу у него возникли трения с Бенкендорфом, жаловавшимся, что жандармы Кавказского округа "не могут быть откровенными" в донесениях своему шефу. Борьба между двумя фаворитами закончилась "высочайшим" повелением (25 апреля 1840 года) о неприкосновенности почты, направляемой в III Отделение, корпус жандармов и лично Бенкендорфу. Тем не менее в тифлисской почтовой конторе был оставлен чиновник, имевший право вскрывать "подозрительные корреспонденции" и представлять из них выписки кн. А. Н. Голицыну, а также главноуправляющему Грузией Е. А. Головину. Последний обязывался "лично распечатывать доставляемые ему для перлюстрации пакеты и сохранять их в строгой тайне"*. Так под ревнивым взглядом старого интригана Бенкендорф прибирал к своим рукам кавказскую вольницу.
* (ЦГАОР, ф. III Отделения, эксп. 1, 1840, № 48)
Осведомленность А. Н. Голицына в секретной деятельности шефа жандармов на Кавказе и во всех извилинах дворцовых интриг, присутствие при беседах Николая о гибели Лермонтова делают ссылку на него Вяземского особенно убедительной.
"Дворцовая" версия о причинах гибели Лермонтова находила, очевидно, тайное распространение. Отсюда купюры в рукописях о личной судьбе поэта, отсюда глухое молчание вместо написанной биографии писателя- классика.
Но рядом с тайной придворной версией сразу после смерти поэта родилась и другая - политическая.
А. И. Тургенев получил известие о гибели Лермонтова, живя под Парижем. Толки о предательском характере дуэли во Францию не дошли. "Отправился получить грустные письма от гр. Вельгурск(ой) из Гавра, от Мюллера из Дьепа, - а Лермонтова не стало", - записывает Тургенев 23 августа (4 сентября) 1841 года*. На следующий день он пишет в Москву А. Я. Булгакову: "Графиня Вельгурская уведомила меня уже о смерти Лермонтова, и я оплакиваю и талант и преступление"**.
* (ИРЛИ, ф. 309, № 319, л. 104об. - 105)
** (М. Ю. Лермонтов. Материалы и исследования. М., Соцэкгнз, с. 68)
Л. К. Виельгорская писала из Гавра 19(31) августа:
"Вам, вероятно, уже известна плачевная кончина Лермонтова. Подобно Пушкину, он сделался жертвою неугомонного ума. Неизвестно мне, с кем он дрался, pour commerage des gamins (из-за мальчишеской сплетни), как мне пишут о том из Петербурга. В нем мы лишились многообещающего поэта, странная судьба наших даровитых молодых людей..."*
* (ИРЛИ, ф. 309, № 3155. Далее Л. К. Виельгорская передает великосветские новости о других молодых людях, в том числе о смерти Н. А. Жерве, белой горячке Ланского и ожоге В. Н. Карамзина)
Не имея подробностей, Тургенев писал Жуковскому 25 августа (6 сентября): "Какие ужасные вести из России! Сердце изныло: Лермонтов убит на дуэли каким-то Мартыновым из-за мальчишеской ссоры, ничего более не знаю..."*
* (Литературное наследство, 1952, № 58, с. 432)
3(15) сентября на балу у графини Разумовской в Париже Тургенев беседовал "с послом о Лермонтове".
5(17) сентября у знаменитой Рекамье в одном из кружков гостей был затронут вопрос о восточной политике России и "о гонении гос(ударя) на иноверцев". "Я нападал на православие вообще", - замечает Тургенев в дневнике. Но 1(13) сентября, беседуя с бароном Андрэ о полицейских мерах, при помощи которых Николай I насаждал православие среди инородцев, Тургенев говорил о жестокой политике царя также и в связи со смертью Лермонтова. "У меня Андрэ, - записывает он, - двое, а не один Лунин. О Лерм(онгове): о гонении на иноверцев"*.
* (ИРЛИ, ф. 309, № 319, л. 106)
Декабрист М. С. Лунин был отправлен в апреле 1841 года на страшную Акатуйскую каторгу за то, что, находясь на поселении, с безумной смелостью и дерзостью распространял свои "Письма из Сибири".
Барон Андрэ, недавно так сочувствовавший Барантам в их конфликте с Лермонтовым, понимал все же, что причины гибели поэта заключались в том, что он был политическим иноверцем. Таким образом, Тургенев и Андрэ указывали на двух бунтарей, ставших жертвами самодержавия, - революционера Лунина и поэта Лермонтова.
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://m-y-lermontov.ru/ "M-Y-Lermontov.ru: Михаил Юрьевич Лермонтов"