
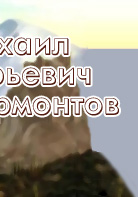
Библиотека
Энциклопедия
Ссылки
О проекте

Возвращение
Вернувшись с Кавказа, Лермонтов вскоре затосковал.
Опять маневры и парады... Бессмысленное утомление и рассеянность...
Он потерял интеллектуальный, насыщенный творческими, духовными интересами круг, с которым так свыкся на Кавказе. Теперь его снова окружала пустая гвардейская среда. Даже тот довольно узкий кружок интеллигенции, состоявший из журналистов, офицеров, чиновников, который образовался у него перед ссылкой благодаря Святославу Раевскому, распался. Не было в Петербурге и самого Святослава. Он все еще находился в ссылке.
Переведенный вскоре после возвращения снова в лейб-гвардии гусарский полк, Лермонтов попал в петербургское великосветское общество, поразившее его особенно теперь своей порочностью. Правда, и в Петербурге был у него кружок молодежи, объединенной чувством протеста против раболепства, муштры, бюрократизма. Но это был кружок аристократов, подобравшихся случайно. Среди них можно было встретить ярких, талантливых, образованных людей, и как различны были они сами, так же различен был и характер их критики, смысл их протеста.
Родственник Лермонтова, Алексей Аркадьевич Столыпин, лев петербургских гостиных, любимец дам, фрондировал во имя собственных капризов и разных причуд. Только что окончивший Петербургский университет, преуспевающий и тщеславный князь Васильчиков, сын фаворита Николая I, становится в позу либерала. Польский патриот, потомок польских магнатов Ксаверий Браницкий, в то время лейб-гусар, кутила и игрок, ненавидел русское самодержавие, поработившее его родину. Девятнадцатилетний князь Лобанов-Ростовский, прямой потомок Владимира Мономаха, только что окончивший Московский университет, а в детстве воспитанный французом-республиканцем, был поклонником декабристов. Столь же различны были и другие члены этого аристократического кружка. После бала или театра собирались то у одного, то у другого позлословить, свободно, не стесняясь, поболтать, а иногда поговорить на серьезные темы.
Для Лермонтова это была небольшая отдушина, и только. В его письмах к московским друзьям звучит вопль отчаянья. Марии Александровне Лопухиной Лермонтов пишет о том, как его преследуют светские дамы, потому что он вошел в моду, превратился в светского льва. Иронизирует сам над собой: "...я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы". Этот самый свет, который оскорбил он в стихах на смерть Пушкина, окружает его лестью, хозяйки великосветских салонов рвут его на части, дамы выпрашивают у молодого поэта стихи и хвастаются ими одна перед другой. Лермонтов хорошо узнал теперь, вблизи разглядел это общество: "если оно будет когда-нибудь преследовать меня клеветой, - пишет он, - (а это случится), то у меня по крайней мере найдется средство отомстить; потому что, конечно, нигде нет столько низкого и смешного, как там". В исповеди другу так приятно посмеяться самому над собой, над своим светским успехом, над тем, чего добиваются и чему завидуют глупцы. А ему все это так несносно! Он рвется в Москву, в ту дружескую культурную среду, которую потерял, уйдя из университета. По дороге из Ставрополя почти месяц прожил в Москве и теперь снова рвался туда, добивался отпуска, чтобы поехать в свой любимый родной город: просил отпуска на полгода - отказали, на 28 дней - отказали, на 14 дней - тоже! Хотел вернуться на Кавказ, но и туда не пускают...
Мечты об отставке не осуществлялись.
Упорно противодействовала столыпинская родня, имевшая сильное влияние на воспитательницу Лермонтова, Елизавету Алексеевну Арсеньеву, урожденную Столыпину. О том, что "милые родственники" не хотят, чтобы он бросил службу, хотя он теперь мог бы это сделать, как сделали одновременно с ним поступившие в гвардию, поэт писал сразу по возвращении.
Его отчаяние с каждым днем возрастало. Жизнь не давалась в руки, свобода уплывала...
О тяжелом душевном состоянии он писал своему бывшему университетскому товарищу, брату Вареньки, Алексею Лопухину: "Что, брат, делать! Вышел бы в отставку, да бабушка не хочет - надо же ей чем-нибудь пожертвовать. Признаюсь тебе, я с некоторого времени ужасно упал духом..." В своих письмах друзьям, посланных не по почте, а со знакомыми, Лермонтов очень резко отзывался о высокопоставленных лицах, о страшных условиях, в которых приходилось жить. Друзья боялись держать у себя эти письма, и они не сохранились. Так было с письмами к жившей потом в Германии московской приятельнице Сашеньке Верещагиной, уничтоженными ее матерью, так было с большинством писем к Святославу Раевскому. Так было и с окончанием этого письма к Лопухину, где поэт объяснял другу, почему он упал духом: его конец оторван.
Задыхаясь в петербургской атмосфере, Лермонтов вспоминал Кавказ, питался кавказскими впечатлениями.
К осени 1838 года закончил "Демона" в новой редакции и посвятил Варваре Александровне Лопухиной. Еще летом Лопухина приезжала в Петербург. Он был тогда в Царском Селе. Его младший друг и родственник Аким Шан-Гирей послал за ним, а сам поскакал к Вареньке.
Когда Лермонтов вошел в гостиную, Шан-Гирей был в комнате один. Лермонтов сел и стал напряженно ждать, не отводя глаз от закрытой наглухо двери. Он не слышал, что говорил ему Аким.
Вдруг где-то за вздрогнувшей дверью вздрогнула и отворилась другая. Послышались до боли знакомые легкие шаги.
На пороге стояла Варенька. Но как она изменилась! Остались только глаза, да на бледном, измученном лице еще отчетливее чернела родинка.
А осенью Лермонтов через Алексея передал ей "Демона".
Он заказал копию переписчику, но сам сделал титульный лист и, как это делал в юности на своих творческих тетрадях, написал заглавие с большим свободным росчерком:

Поместил и дату окончания: "1838 года сентября 8 дня".
Переписчику велел пропустить несколько строк после слов:
Средь полей необозримых В небе ходят без следа Облаков неуловимых Волокнистые стада...
На свободном месте своей рукой вписал:
Час разлуки, час свиданья - Им ни радость, ни печаль; Им в грядущем нет желанья И прошедшего не жаль. В день томительный несчастья Ты об них лишь вспомяни; Будь к земному без участья И беспечна, как они.
В конце опять сам написал посвящение:
Я кончил - ив груди невольное сомненье! Займет ли вновь тебя давно знакомый звук, Стихов неведомых задумчивое пенье, Тебя, забывчивый, но незабвенный друг? Пробудится ль в тебе о прошлом сожаленье? Иль, быстро пробежав докучную тетрадь, Ты только мертвого, пустого одобренья Наложишь на нее холодную печать; И не узнаешь здесь простого выраженья Тоски, мой бедный ум томившей столько лет; И примешь за игру иль сон воображенья Больной души тяжелый бред...
Тогда же написал "Думу", в которой осудил себя и своих современников.
Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее - иль пусто, иль темно...
Считал: каждый несет ответственность за свою эпоху. Через год, после того как вернулся Лермонтов, был прощен Раевский. Ранней весной 1839 года он приехал в Петербург, где его ждали родные.
Через несколько часов после приезда Раевского в квартиру ворвался Лермонтов. Он бросился ему на шею, целовал, гладил, повторяя:
- Прости меня, прости меня, милый!
Раевский был растроган и старался успокоить друга.
В семье Раевских хорошо запомнили эту встречу друзей, взволнованное лицо Лермонтова, его глаза, полные слез.
5 августа 1839 года Лермонтов дописывал последние строки новой поэмы, задуманной в дни ссылки. Ее герой Мцыри не нашел дорогу домой. Он просит старика монаха:
"Когда я стану умирать, И, верь, тебе не долго ждать, Ты перенесть меня вели В наш сад, в то место, где цвели Акаций белых два куста... Трава меж ними так густа, И свежий воздух так душист, И так прозрачно-золотист Играющий на солнце лист! Там положить вели меня. Сияньем голубого дня Упьюся я в последний раз. Оттуда и идеи и Кавказ!"

Варвара Александровна Лопухина. Акварель Лермонтова
А еще через десять дней, 15 августа, умирает в черноморском форте Лазаревском от тропической лихорадки Одоевский. И хлынул поток мучительно-острых воспоминаний. Детский смех, лазурный пламень глаз, глубокий ум - весь "цвет души" умершего друга встает в памяти поэта. Он пишет, и зачеркивает, и снова пишет о святом огне, который жил в душе Одоевского, о том, как до конца сохранил он нетронутой свою прекрасную, чистую душу, как не ожесточило его зло, не избаловала излишняя нежность окружающих. В своей траурной элегии он создает замечательный портрет Одоевского:
1 Я знал его: мы странствовали с ним В горах востока и тоску изгнанья Делили дружно; но к полям родным Вернулся я, и время испытанья Промчалося законной чередой; А он не дождался минуты сладкой: Под бедною походною палаткой Болезнь его сразила, и с собой В могилу он унес летучий рой Еще незрелых, темных вдохновений, Обманутых надежд и горьких сожалений! 2 Он был рожден для них, для тех надежд, Поэзии и счастья... Но, безумный - Из детских рано вырвался одежд И сердце бросил в море жизни шумной, И свет не пощадил - и бог не спас! Но до конца среди волнений трудных, В толпе людской и средь пустынь безлюдных В нем тихий пламень чувства не угас: Он сохранил и блеск лазурных глаз, И звонкий детский смех, и речь живую, И веру гордую в людей и жизнь иную. 3 Но он погиб далеко от друзей... Мир сердцу твоему, мой милый Саша! Покрытое землей чужих полей, Пусть тихо спит оно, как дружба наша В немом кладбище памяти моей!

Воспоминание о Кавказе. Картина Лермонтова
Несколькими штрихами рисует Лермонтов такой же яркий, незабываемый "портрет" Кавказа, который для него так слился с образом умершего друга, так неотделим от него:
И вкруг твоей могилы неизвестной Все, чем при жизни радовался ты, Судьба соединила так чудесно: Немая степь синеет, и венцом Серебряным Кавказ ее объемлет; Над морем он, нахмурясь, тихо дремлет, Как великан, склонившись над щитом, Рассказам волн кочующих внимая, А море Черное шумит не умолкая.
Сидя у себя в кабинете в холодном, туманном Петербурге, Лермонтов переносится мыслью на Кавказ. То пишет маслом картины по зарисовкам, сделанным в пути, то записывает сказку, которую рассказал ему Ахундов, - сказку о бродячем певце Ашик-Керибе: "...пророк не дал ему ничего, кроме высокого сердца и дара песен..."
В основе этой сказки лежала мысль о могучей силе искусства, о власти поэтического слова... Где-то в глубине была мысль о высоком назначении поэта.
Все это служило основой его собственного творчества. За стихи "Смерть Поэта" был он сослан и со стихотворением "Поэт" выступил по возвращении. В этом стихотворении, в одном из самых первых, которое напечатал он в "Отечественных записках" (первым была "Дума"), заключалась его поэтическая программа. В нем снова возникал образ кинжала:
Отделкой золотой блистает мой кинжал; Клинок надежный, без порока; Булат его хранит таинственный закал - Наследье бранное востока.
В символических образах говорил о том, что некогда голос поэта
Звучал, как колокол на башне вечевой Во дни торжеств и бед народных.
Обращался к современникам с призывом:
Проснешься ль ты опять, осмеянный пророк! Иль никогда, на голос мщенья. Из золотых ножон не вырвешь свой клинок, Покрытый ржавчиной презренья?
Так начинал Лермонтов свое поэтическое поприще после первой ссылки на Кавказ. И это должно было неизбежно привести его к новой. Повод к тому вскоре представился.
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://m-y-lermontov.ru/ "M-Y-Lermontov.ru: Михаил Юрьевич Лермонтов"