
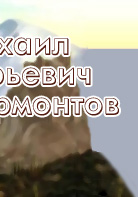
Библиотека
Энциклопедия
Ссылки
О проекте

Кинжал
Цинандали. Цинандали... Дом-дворец, волшебный парк...
Заколдованное царство деревьев-гигантов. Дубы и липы, аллеи чинар, белая акация, магнолии, мимозы... Красное дерево и пробковый дуб. Софора с причудливо изогнутыми серебристыми ветвями, душистый османтус, вьющаяся декоративная текома. Вековая липа с громадным дуплом. Темно-зеленые, колоссальных размеров кипарисы подъездной аллеи. Все преувеличенно, монументально. Зеленый массив каких-то сказочных деревьев. Своими кронами они образуют грандиозный зеленый шатер.
Ноябрь. Но парк еще зеленый. Только временами, при дуновении ветерка, увядшие листья плавно летят вниз, и легкий желтый узор лежит на дорожках и зеленых лужайках. Порхают белые бабочки. Мягко чирикают птицы в густой сени деревьев. Тишина.
У часовни, где Нина Чавчавадзе обручалась с Грибоедовым, шепчутся листья старого дуба и белые круглые валуны дорожки многие годы омываются дождем. Отсюда открывается вид на долину Алазани:
Там, где вьется Алазань, Веет нега и прохлада, Где в садах сбирают дань Пурпурного винограда...
Ночью парк живет какой-то своей, особенной, фантастической жизнью.
В доме темно. Но вот в одном окне вспыхивает и загорается свет. Из окна в окно пробегают огоньки, будто кто-то идет по комнатам со свечой...

Кавказский вид. В окрестностях Цинандали. Картина Лермонтова
Из распахнутых окон несутся звуки музыки. Маленькое французское пианино, которое когда-то подарил Нине Грибоедов, стоит у окна гостиной.
Гремят стулья, и кажется, что много людей садится за круглый стол. Раздаются голоса тостов и звон хрусталя... И снова тишина.
Двое стоят у камина и бросают в прогорающие угли каштаны. Каштаны трескаются и выскакивают к их ногам.
Кто-то входит. Это поэт Бараташвили. Он совсем юный, невысокий, мечтательный, чуть прихрамывает.
Нина садится за пианино. Рядом стоит Екатерина. Бараташвили не сводит с нее глаз. Сестры поют по-грузински "Соловья и розу". Стихи сочинил Одоевский, а Чавчавадзе перевел на грузинский язык. Одоевский сидит в глубине гостиной, в кресле. Где-то тут, в комнате, Лермонтов...
Сестры просят Бараташвили прочитать и своего "Соловья и розу". Но стихи, написанные по-грузински, на русский язык не переведены, и Нина передает их содержание. Соловей всю ночь пел в ожидании, что расцветет роза, а под утро усталый заснул. Пока он спал, роза расцвела и увяла. Соловей в горе.
Бараташвили увлечен легендой о крылатом коне Мерани. В тишине гостиной звучит рассказ поэта. Мерани - конь мечты, и поэт вверяет себя его бешеной скачке. Пусть слаб он, но он не раб судьбы! Крылатый конь проложит дорогу в будущее. По его следу пойдут вперед другие. Пока это еще не осуществленный замысел будущего стихотворения, но Бараташвили непременно напишет его когда-нибудь.
Вот вспыхивает огонь в кабинете. Там у письменного стола хозяина сидят двое. Это Лермонтов и Одоевский. Чавчавадзе показывает им книги своих переводов, а потом по тетрадке читает свои стихи, тут же переводит. И встают прекрасные образы его поэзии. Кавказ - величием исполненный тайник, край дикой прелести. К его бесплодному нагому утесу злой волей прикован Прометей. Озеро Гокча подобно морю. По его берегам некогда цвели города. Но теперь там пусто и безлюдно. Все застыло в отрешенном покое. Богатство, честь, слава, красота - все исчезло с лица земли. Шествует время, которое все поглощает, которому ничего не жаль.
А вслед за тем звучат стихи о радостях жизни, гимн любви, вину и красоте.
И снова меняется тема.
Склонившись через стол к своим собеседникам, Чавчавадзе взволнованно восклицает:
- Горе этому миру и тем, кто олицетворяет зло, кто живет насильем, грабежом, клеветой!
В стихах проходят образы тех, кто мучает, истязает простых, подвластных им людей, кто ради богатства убивает себе подобных, издевается над законом... царь, который ищет все новых и новых богатств... корыстная толпа царедворцев... И встает угроза суровой расплаты за причиненное зло.
Огонь в кабинете гаснет. Он снова загорается в гостиной.
Стоит Нина, протянув вперед руки. На ее руках - кинжал.
Перед ней - Лермонтов.
Погиб Грибоедов, Пушкин убит
И она передает ему кинжал, чтоб был он тверд душой, как подобает поэту.
Темный парк обступает со всех сторон, и лишь где-то над головой, в прорыве темного шатра, большие голубые звезды мерцают в темном небе.
ПОДАРОК Люблю тебя, булатный мой кинжал, Товарищ светлый и холодный. Задумчивый грузин на месть тебя ковал, На грозный бой точил черкес свободный. Лилейная рука тебя мне поднесла В знак памяти, в минуту расставанья, И в первый раз не кровь вдоль по тебе текла, Но светлая слеза - жемчужина страданья. И черные глаза, остановись на мне, Исполненны таинственной печали, Как сталь твоя при трепетном огне, То вдруг тускнели, то сверкали. Ты дан мне в спутники, любви залог немой, И страннику в тебе пример не бесполезный: Да, я не изменюсь и буду тверд душой, Как ты, как ты, мой друг железный.
Лермонтов пишет быстро, не отрываясь. Закончив, тихо выходит из своей комнаты и чуть слышно стучит в дверь к Бараташвили. Тот еще не спит и открывает ему. Лермонтов читает только что написанные строки.
Приказ о возвращении пришел. Лермонтов простился с Одоевским, с семьей Чавчавадзе, с товарищами по полку, простился с Цинандали...
Перед отъездом он пишет Раевскому, который все еще не вернулся из ссылки. Это беглый, на скорую руку, отчет обо всем, что с ним было, итог его пребывания на Кавказе. Письмо, в котором многое надо читать между строк, потому что оно отправлено с "российской почтой", - это письмо поднадзорного офицера. О многом нельзя говорить прямо, надо маскировать свои мысли и желания, писать иносказательно: "Наконец, меня перевели обратно в гвардию, но только в Гродненский полк, и если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли Поселение веселее Грузии. (Поселение - это страшные аракчеевские военные поселения в Новгороде, где стоял полк, куда был переведен Лермонтов. - Т. И.) С тех пор как выехал из России, поверишь ли, я находился до сих пор в беспрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом...
...Здесь, кроме войны, службы нету; я приехал в отряд слишком поздно, ибо государь нынче не велел делать вторую экспедицию, и я слышал только два, три выстрела; зато два раза в моих путешествиях отстреливался: раз ночью мы ехали втроем из Кубы, я, один офицер нашего полка и черкес (мирный, разумеется), - и чуть не попались шайке лезгин".
Ему хочется рассказать Раевскому о своих встречах на Кавказе, о своих новых друзьях, но он боится подвести их и не называет имен. При этом тут же упоминает и знаменитые тифлисские кислосерные "татарские" бани, которыми было принято восхищаться: "Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные..." Он уверен, Раевский поймет его правильно. Раевский знает, что значит такая похвала в устах Лермонтова. Он хорошо помнит, как резко отзывался его младший друг о своих петербургских великосветских знакомых, как изображал в стихах и прозе старую дворянскую Москву. Это "очень порядочные" произносится с таким уважением! Возведение в сан "порядочности" да еще в письме к тому, кто был для Лермонтова идеалом порядочности и благородства, звучит очень весомо. Он хочет подчеркнуть, что ссылка, в сущности, не была ссылкой, что наказание было легким и он не жалуется: "Я снял на скорую руку виды всех примечательных мест, которые посещал, и везу с собою порядочную коллекцию; одним словом, я вояжировал". Не упоминая имени своего учителя Ахундова, сообщает, что начал учиться "по-татарски", "да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться. Я уже составил план ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским*. ...Скучно ехать в новый полк, я совсем отвык от фронта** и серьезно думаю выйти в отставку.
* (Экспедиция в Хиву (1839-1840) готовилась с целью заставить хивинцев прекратить набеги на русские пограничные земли, освободить русских пленных, обеспечить спокойствие и торговлю. При недостатке теплой одежды и топлива русское войско было застигнуто бураном и морозами. Потеряв 1000 человек из 4000, начальник экспедиции оренбургский военный губернатор В. А. Перовский вернулся обратно, привезя 1200 больных. )
** (Фронт, фрунт - военный, войсковой строй. )
Прощай, любезный друг, не позабудь меня и верь все-таки, что самой моей большой печалью было то, что ты через меня пострадал.
Перед отъездом поэт снова бродит по городу с Ахундовым, прощается с Тифлисом.
Снова сидят они в кофейне на Майдане, и Ахундов рассказывает сказки. Одна из них особенно близка Лермонтову. Ее герой - бродячий певец Ашик-Кериб. В судьбе народного певца что-то напоминало судьбу Пушкина. В ней были какие-то черты жизни великого ашуга, о котором здесь же, на Майдане, рассказывал Ахундов. Как и Саят-Нова, был он бедняк и, как Саят-Нова, держал себя гордо и независимо с сильными мира и больше всего на свете, больше богатства и власти, ценил дар песен. Как и Саят-Нова, Ашик-Кериб попадает во дворец и становится придворным поэтом. Не было только в этой сказке трагедии поэта и, как во всякой сказке, все кончалось благополучно: свадьбой и богатством. Но на то она и была сказкой...
И тем не менее сказка эта взволновала Лермонтова. Что-то напомнило ему и собственную жизнь. Вспомнилось, как перед отъездом в Петербург стоял он с Варенькой Лопухиной на балконе в Середникове и она обещала ждать его возвращения. Магуль-Мегери - это то, что хотел он видеть в Вареньке и чего в ней не было. И все-таки он очень любил ее. И очень жалел... Но она не была идеалом. И стала жертвой своего собственного бессилия, своей слабости.
Отправив Андрея Ивановича вперед, Лермонтов опять решил ехать один. И снова Мцхета, и снова Млеты, Квешети, Крестовый перевал, Казбек...
Тучи догоняли его. Они низко спускались над скалистыми горами, темные, зловещие. Лишь минутами в этом бушующем безмолвном хаосе появлялась гигантская голова, увитая белоснежной чалмой:
Спеша на север из далека, Из теплых и чужих сторон, Тебе, Казбек, о страж востока, Принес я, странник, свой поклон.
Только голос Терека нарушал тишину. Эта мертвая тишина предвещала бурю. Казалось, что здесь все во власти Казбека, и к нему обращался поэт:
Молю, чтоб буря не застала, Гремя в наряде боевом, В ущелье мрачного Дарьяла Меня с измученным конем. Но есть еще одно желанье! Боюсь сказать! - душа дрожит! Что, если я со дня изгнанья Совсем на родине забыт! Найду ль там прежние объятья? Старинный встречу ли привет? Узнают ли друзья и братья Страдальца после многих лет? Или среди могил холодных Я наступлю на прах родной Тех добрых, пылких, благородных, Деливших молодость со мной? О, если так! своей метелью, Казбек, засыпь меня скорей...
Миг один - и туч как не бывало. Нежно-голубое, прозрачное, легкое небо и такие же легкие, как небо, белые, прозрачные облака. Своими причудливыми очертаниями они напоминали каких-то прекрасных, добрых сказочных существ, реющих над такими же сказочными, но зловещими окаменелыми чудовищами.
Во Владикавказе Лермонтова встретил Андрей Иванович. Пришлось ждать оказии, и поэт познакомился с французским путешественником. Сидя за столом в доме для приезжающих, они вместе рисовали. Лермонтов был в прекрасном настроении и во весь голос распевал:
A moi la vie, a moi la vie, a moi la liberte! (Ко мне, жизнь, ко мне, жизнь, ко мне, свобода!)
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://m-y-lermontov.ru/ "M-Y-Lermontov.ru: Михаил Юрьевич Лермонтов"