
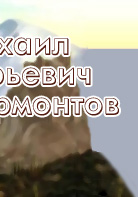
Библиотека
Энциклопедия
Ссылки
О проекте

Лермонтов и Е. А. Сушкова (А. Глассе)
История отношений Лермонтова и Е. А. Сушковой - достаточно значительный "сюжет" в личной и литературной биографии поэта. Лето и начало осени 1830 г., проведенные Лермонтовым в имении Столыпиных Середникове в тесном общении с московской кузиной Сашенькой Верещагиной и ее близкой приятельницей Катей Сушковой, отмечено интенсивностью творческого развития поэта: поэтические создания этой поры - заметная веха в становлении его художественной индивидуальности.
Около двух десятков стихотворений Лермонтова, написанных в это время, несут на себе следы влияния поэтических интересов, поэтических вкусов'лиц, его окружавших; в них и отголоски юношеского романа поэта, в известном смысле воспринимаемого самим Лермонтовым сквозь призму литературных впечатлений: той поры.
Конец 1834 - начало 1835 г. - время новой встречи Лермонтова и Сушковой в Петербурге - тоже весьма значительный' эпизод в творческой биографии поэта, связанный с созданием оставшейся незавершенной повести "Княгиня Лиговская".
Вот почему по возможности полное и исторически точное раскрытие темы "Лермонтов и Сушкова" дает в руки исследователю материал, чрезвычайно важный для изучения лермонтовского творчества, в его связи с биографией поэта. До настоящего времени эта тема рассматривалась на материале воспоминаний Е. А. Сушковой. В мемуарной литературе о Лермонтове ее "Записки" выделяются как один из наиболее полных источников биографии раннего Лермонтова, хотя ряд фактов и суждений, в них содержащихся, не всеми и не всегда воспринимались с полным доверием.1 Мы вновь обращаемся к не проясненной до конца "середниковской истории" и ее продолжению, относящемуся уже к середине 1830-х годов. Мы делаем попытку пересмотреть ряд фактов, касающихся Лермонтова и Сушковой, на основе нового прочтения источников, уже ранее известных; мы также привлекаем ряд документальных материалов, ранее не введенных в научный оборот, в том числе альбомы, принадлежавшие А. М. Верещагиной.
1 (См. об этом: Сушкова Е. (Хвостова Е. А.). Записки. 1812-1841. Л., 1928, с. 16-19 (далее при цитировании этой книги страницы указываются в тексте статьи).)
По воспоминаниям самой Сушковой и по приводимым исследователями генеалогическим справкам нам достаточно хорошо известна личность мемуаристки к моменту ее знакомства с Лермонтовым, - к весне 1830 г., когда завязываются тесные дружеские отношения Сушковой с "кузиной" Лермонтова - Сашенькой Верещагиной. Сушкова принадлежит к коренной московской семье, - и семье чрезвычайно "литературной". По материнской линии она в родстве с известным поэтом кн. И. М. Долгоруковым; по отцовской - с Н. В. Сушковым, также поэтом, драматургом и мемуаристом, хранителем преданий Московского благородного пансиона, где в это время учится Лермонтов. Ее кузины и кузены также прямо причастны к литературе, - достаточно назвать Е. А. Ган, Д. П. Сушкова и в особенности, конечно, Е. П. Сушкову-Ростопчину, "Додо", с которой Лермонтов также познакомился в эти годы, хотя приятельские их отношения начинаются много позднее.
Значительно меньше мы знаем о литературном воспитании ближайшей подруги Сушковой - и Лермонтова - Александры Михайловны Верещагиной. Между тем выяснение этого вопроса немаловажно, - и не только потому, что Верещагина стала, как хорошо известно, своего рода хранительницей лермонтовского литературного наследия, но и потому, что общность литературных интересов в значительной мере предопределила самый характер взаимоотношений юного Лермонтова как со своей "кузиной", так и с ее новой приятельницей.
Именно с точки зрения характеристики той литературной среды, в которой выросла Сашенька и в которую позже вошел Лермонтов, для нас оказываются особенно интересны три альбома, принадлежавшие матери Александры Михайловны, Елизавете Аркадьевне Анненковой-Верещагиной. Наиболее ранний из них, датированный 1808 г., находится ныне в Библиотеке Колумбийского университета (США). Это маленький альбом (размером 12.5X20.1, 189 с), в переплете из темно-красной кожи. На нем надпись (рукой Александры Берольдинген): "Livre de Poesies appartenant a Elisabeth d'Annencoff, fille d'Arcadie Annencoff et de la Princesse Galitzin. Moscou, 1808".1Следующий по времени альбом, с датой "21 апреля 1819 г.", также в темно-красном кожаном переплете, с золотым обрезом (13.5X9.5, 127 с), хранится ныне в семейном архиве фон Кениг в замке Вартхаузен (ФРГ). Там же находится третий альбом, с водяным знаком 1805 г., но заполнявшийся позднее, в конце 1810-1820-х годов и содержавший 108 страниц (в таком же переплете, что и два предыдущих). На этих материалах следует вкратце остановиться.
1 (Отдел редких книг и рукописей Библиотеки им. Батлера Колумбийского университета в г. Нью-Йорке (New York, Columbia University, Butler Library, Rare Books and Manuscripts Division, Gen. Ms. 118, Wereshchagin Albums (M. Iu. Lermontov)).)
Анненковой-Верещагиной довольно типичны для литературных вкусов первой четверти XIX в. В самых ранних записях большая часть стихов посвящена дружбе. Как это нередко бывало в подобных альбомах, владелица составляла своего рода антологию по тематическому признаку, выписывая русские и французские стихи ("L'Amitie", "А l'Amitie") и подбирая соответствующие сентенции и афоризмы. Анненкова-Верещагина любит моралистическую басню, главным образом Дмитриева и Жуковского; она переписывает идиллические и сентиментальные стихи русских поэтов: "Счастливое семейство" и "Похвалу сельской жизни" Державина, "Уныние" Капниста, "Блаженство любви" Салтыкова. Несколько особняком стоят стихотворения Долгорукова - с обычными для него шутливыми и сатирическими нотами: "В последнем вкусе человек", "К бедняку". Многие стихотворения выписываются, по-видимому, как слова популярных песен и романсов. - "Мой друг, хранитель-ангел мой" Жуковского, "Среди долины ровныя" Мерзлякова, "Когда веселий на крылах" и "Гимн" Нелединского-Мелецкого; есть здесь и другие романсы - русские н французские. Чаще всего встречаются имена московских поэтов Дмитриева, Мерзлякова, В. Л. Пушкина.
Своеобразные поэтические диалоги показывают, что Елизавета Аркадьевна многое знала наизусть. На записанную А. А. Столыпиным цитату из "Фингала" Озерова она отвечает словами Модны из той же трагедии.
Более поздние записи - 1810-х-1820-х годов - свидетельствуют, что ее интерес к литературе не угасает; напротив, она все более интересуется русской литературой, и французских записей становится меньше. Теперь в альбоме проходят имена Жуковского, Батюшкова ("Пленный"), Козлова ("Звезда"), Пушкина ("Элегия" ("Увы, зачем она блистает"), "Телега жизни", "Черная шаль"). Владелица альбома начинает следить за популярной романтической поэзией. Это дань моде - у Елизаветы Аркадьевны нет особенной самостоятельности или утонченности литературного вкуса. Близких связей с литературным миром у нее также нет. И вместе с тем перед нами - определенный тип литературного восприятия. Семейство Анненковых-Верещагиных не может равняться в этом отношении с Сушковыми, но и оно имеет некоторые традиции. Бабушка Елизаветы Аркадьевны, Евдокия Федоровна Болтина, рожденная княжна Голицына, была известна как переводчица драмы Дж. Томсона "Сократ".1 Сохранилось предание, что одна из ее прабабушек была в первом браке за Сумароковым. Из более близких родственников - ее современников писали стихи братья Столыпины - Дмитрий, Афанасий и Николай;2 брат первого мужа сестры Елизаветы Аркадьевны, Алексей Васильевич Воейков, участвовал в журналах "Ипокреыа"3 и "Приятное и полезное препровождение времени". Верещагины также были в родстве с известным поэтом И. И. Козловым.
1 (Геннади Г. Справочный словарь о русских писателях и ученых, т. 1. Берлин, 1876, с. 102-103.)
2 (См., например: Столыпин Д. Надгробие Князю Репнину. - Ипокрена, 1801, ч. 9, с. 224. См. также стихи Столыпиных в альбомах Елизаветы Аркадьевны 1808 г. и 1810-1820-х годов.)
3 (Воейков А. В. Святослав. - Ипокрена, 1799, ч. 6, с. 502-512. См. также альбом Елизаветы Аркадьевны 1810-1820-х годов.)
Елизавета Аркадьевна стремилась передать и дочери свои литературные увлечения, о чем свидетельствуют многочисленные записи, сделанные ее рукой в альбомах Сашеньки, а также та заботливость, с которой она старается пересылать дочери последние литературные новинки, когда та уже живет в Германии. Она терпеливо переписывает не только стихи, но и целые поэмы из альманахов и журналов.1
1 (Гладыш И. А., Дине см а и Т. Г. Архив А. М. Верещагиной. - Зап. Отд. рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина, вып. 26.М., 1963, с. 35-36.)
Литература входила в повседневный быт, накладывая свои отпечаток на строй чувств и внешние их проявления. Это важно отметить, потому что с ранним "романом" Лермонтова и Сушковой связано появление известного стихотворного цикла, причем любовные посвящения не оставались лишь интимным самовыражением Лермонтова: стихи дарились и принимались. Равнодушная к автору, Сушкова не была безучастной к плодам творчества Лермонтова; его стихи представляли для нее ценность, причем не только ценность реликвии. Пока дело шло о них, мы могли бы даже говорить об известном взаимопонимании юного поэта и его читательницы, при всей несоизмеримости интеллектов и дарований. Более того, как мы увидим несколько позже, Лермонтов, Сушкова и Верещагина увлечены одними и теми же литературными образцами; декламируя девушкам Ламартина и Байрона, он рассчитывает на интерес с их стороны и действительно встречает его. Интерес этот, конечно, не только интеллектуальный: поколение 1830-х годов научилось уже чувствовать "по Ламартину" и "по Байрону".
Общность интересов и вкусов у Лермонтова и его приятельниц, таким образом, безусловно, была, - но излишне доказывать, что ее было недостаточно для взаимного чувства. Помимо совершенно индивидуальных, интимных и не поддающихся никакому рациональному исследованию причин, здесь действовали и иные причины, уже общественно-психологического свойства. Мы можем отчасти уловить их, если обратимся к тем страницам "Записок" Сушковой, где она рассказывает о своем детстве и ранней юности.
С очень раннего возраста Сушкова была разлучена с матерью и воспитывалась в доме своей тетки по отцу, М. В. Беклешевой. "Записки", которые она написала для своей подруги, М. С. Багговут, являются до некоторой степени характеристикой настроений Сушковой, ее душевного состояния. "Записки" проникнуты жалобой на невыносимо тягостное положение среди людей ей чуждых и даже враждебных. "Ты знаешь, как рано оторвали меня от матери, - жалуется она подруге, - и принудили скитаться по чужим углам; ты знаешь, как вполне безотрадна, тяжела и горька моя жизнь; ты также коротко знаешь и тех, с которыми обстоятельства заставляют меня жить; ты знаешь их образ мыслей, их понятия или, лучше сказать, совершенное отсутствие мыслей и понятий" (27).
Она рисует ужасную картину своего детства, вспоминает самодура отца, угнетенную мать, с которой ее разлучили насильно, не разрешив видеться с нею и писать ей письма. Даже портрет матери был уничтожен. "Картины дикости и отупения" - назвал этот быт М. Е. Салтыков-Щедрин в своей рецензии на "Записки" Сушковой.1 Таким образом, до своего замужества Сушкова вынуждена была жить в среде, которую она воспринимала крайне болезненно: "Я осталась в кругу ненавистных мне людей, отъявленных врагов моей обожаемой матери" (61). Ее сохранившийся дневник также наполнен жалобами на тяготы существования. Даже если они были преувеличенными, как старалась доказать сестра Сушковой Е. А. Ладыженская, нельзя не видеть, что "Записки" написаны глубоко несчастным человеком.2
1 (Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч., т. 9. М., 1970, с. 390.)
2 (О том, что описание детства и юности Сушковой правдиво, говорят и записки ее родственника, А. М. Фадеева (см.: Фадеев А. М. Воспоминания. Одесса, 1897). Описание уклада жизни в семье Сушковых играет важную роль в раннем произведении Е. П. Ростопчиной "Журнал Зинаиды"; оно "сохранило отпечаток страданий, которые ей пришлось испытать в этой среде, богатой роскошью, но бедной мыслию" (Ростопчина Л. Семейная хроника (1812 г.). СПб., [Б. г.], с. 163).)
Образование Сушкова получила очень скудное и нерегулярное. Можно только удивляться, что она могла стать автором таких интересных и талантливо написанных "Записок", которые свидетельствуют о самостоятельности ее суждений, здравом смысле, наблюдательности и живости ума.
Она много читала, но без системы, все подряд. "От нечего делать, - вспоминает Сушкова, - я принялась читать без выбора, без сознания. Вольтер, Руссо, Шатобриан, Мольер прошли через мои руки. Верно, я любила процесс чтения, потому что, не понимая философских умствований, я с жадностью читала от доски до доски всякую попавшуюся мне книгу" (63-64). Сушковой нравились сентиментальные романы Жанлис, увлекалась она и Радклиф.
Больше всего Сушкова страдала от одиночества, так как тетка не разрешала ей иметь подруг. Предоставленная самой себе, она или плакала о матери, или погружалась в мечты.
Так бессмысленно и печально текла жизнь Сушковой, пока ее не начали вывозить в свет, чтобы сделать выгодную партию.
Сушкова была хороша. Представление о ее внешности дает нам миниатюрный портрет, на котором она изображена в розовом платье. Лицо очень живое и черты правильные; поражают ее огромные черные глаза.
Она имела успех в обществе и была избалована кавалерами. Кто-то уже по ней страдал, кто-то делал предложение, кто-то собирался умереть из-за ее равнодушия. Странно было бы ожидать, чтобы все это не нравилось молоденькой девушке. Позже, оправдываясь в своем кокетстве, Сушкова писала, что балы и светская жизнь давали ей возможность вырваться из удручающей атмосферы дома. Поездку в Москву к родственникам Сушкова также воспринимала как возможность "отдохнуть от постоянного невидимого, но рассчитанного гонения" "благодетельницы" тетки (100).
Приехав из Петербурга, полная светских впечатлений и окрыленная успехом (ее заметил великий князь Михаил Павлович и отозвался о ней благосклонно), она смотрела на Москву несколько свысока; ее удивляли московские манеры и моды. Об этом она очень много пишет в дневнике, который вела в следующий свой приезд в Москву, в 1833 г. Она описывает "блестящий бал", который в Петербурге был бы "только бесцветным вечером", "беззубых маменек 50-ти лет, изысканно одетых и вдобавок с короткими рукавами", барышень, фамильярность которых резко контрастирует с топом петербургского общества. Сушкову ужасает наряд ее кузины, Додо Ростопчиной: "Трудно поверить, что за вкус у москвичей" (251).
Эти впечатления о Москве очень важно иметь в виду. Они объясняют отчасти, почему знакомство с пятнадцатилетним воспитанником Московского университетского благородного пансиона не произвело на нее никакого впечатления. Она его просто не заметила.
В Москве у Сушковой появилась подруга - Сашенька (Alexandrine) Верещагина. Они были соседями. К тому же к Верещагпной сватался дядя Сушковой, П. В. Сушков, отец Е. П. Ростопчиной. Родственники охотно отпускали Сушкову к подруге, наставляя ее расхваливать дядю: Сашенька была богатая невеста.
В это время Верещагиной было двадцать лет. Это важно отметить. По понятиям того времени она была уже не "первой молодости". С ее портрета смотрит на нас миловидная девушка с тонкими чертами серьезного лица. Родственник Лермонтова и автор воспоминаний о нем, А. П. Шан-Гирей, характеризует Верещагину как человека с саркастическим и ироничным умом. Описывая свою подругу, Сушкова употребляет слово "насмешливая". Других высказываний современников о Верещагиной, кроме беглых заметок Сушковой и Шан-Гирея, мы не знаем. В письмах ее к Лермонтову Сашенька предстает девушкой разумной и рассудительной, несколько холодной, которая обращается к поэту иронично, покровительственно и свысока, как старшая, но вместе с тем с дружеской заботливостью. По воспоминаниям ее правнучки, Элизабет Альберти, Сашенька в более зрелом возрасте была женщиной решительной, энергичной и очень прямой. Купив с мужем, дипломатом бароном Карлом фон Хюгелем, замок Хохберг, где они поселились с семьей, недалеко от резиденции принца Вюртембергского, Верещагина занималась перестройкой замка, церкви при нем и сама вела все хозяйство. Отличалась она и практичностью: следя за последней модой, сама шила себе платья и шляпы. Заботясь о своем положении в свете1 и стараясь производить эффект, она не желала при этом делать особых затрат. "Однажды, - пишет Альберти, - принц Карл Вюртембергский заметил ей, что на ней очень красивое платье, но что он ее в нем видел уже не раз. "И ваше королевское высочество его на мне еще не раз увидит", - был ее ответ".2 Ее прямота доходит до резкости. Своим друзьям она говорит в глаза вещи, которые заставляют Сушкову "вспыхивать от досады", Лермонтова убегать рассердившись и смущают Лопухина. В поздние годы, судя по воспоминаниям Альберти, эта резкость еще увеличилась.
1 ("Cela fait de l'effet, - часто говорила она. - Il faut absolument a cause, de notre position", - пишет Альберти (Воспоминания Элизабет фон Альберти, с. 7-8.- Коллекция семьи фон Кениг (Вартхаузен, ФРГ)).)
2 ("Cela fait de l'effet, - часто говорила она. - Il faut absolument a cause, de notre position", - пишет Альберти (Воспоминания Элизабет фон Альберти, с. 7-8. - Коллекция семьи фон Кениг (Вартхаузен, ФРГ)).)
Сушкова, по-видимому, очень привязалась к Верещагиной. Это была собственно ее первая подруга. Известны четыре записи, сделанные Сушковой в альбоме Верещагиной (Верещ.I): три французских стихотворения ("В альбом" Ламартина, стихи М. Деборд-Вальмор) и одно русское ("В альбом" И. И. Козлова). Вынужденное одиночество в семье заставляло ее и позже искать поверенных своим мыслям и переживаниям; она выбирала для этого иной раз и менее близких ей людей: Ростопчину, Е. (Ган) и собственную сестру Е. А. Ладыженскую. Самые "Записки", как уже было сказано, написаны для ее подруги, М. С. Багговут.
У Сашеньки Верещагиной Сушкова познакомилась с Лермонтовым, который жил также по соседству: "У Сашеньки встречала я в это время ее двоюродного брата, неуклюжего, косолапого мальчика лет шестнадцати или семнадцати, с красными, но умными, выразительными глазами, со вздернутым носом и язвительно-насмешливой улыбкой" (108).
Внешняя история взаимоотношений Сушковой с Лермонтовым подробно рассказана в ее "Записках". Первоначальное их знакомство произошло, по-видимому, ранней весной 1830 г.: Сушкова помнила, как Мишель "радовался" и "торжествовал", когда получил приз на пансионском экзамене (129). Это было 29 марта 1830 г.; итак, начало увлечения пятнадцатилетнего мальчика "петербургской модницей", как шутя аттестовала Сушкову Верещагина, следует отнести к ранней весне этого года.1 Разница в возрасте составляла, таким образом, два года с небольшим; разница в общественном положении, предопределенная ею, была гораздо больше. "Мне восемнадцать лет, - говорит Сушкова Лермонтову, - я уже две зимы выезжаю в свет, а вы еще стоите на пороге этого света и не так-то скоро его перешагнете" (116).
1 (Ср. также упоминание Сушковой о стихах, которые ей преподнес Лермонтов в букете шиповника. Этот эпизод она относила к осени; Е. А. Ладыженская возражала, что шиповники "цветут весной, а не осенью" (341). Сушкова ошиблась в дате, но, конечно, не в факте.)
Этот разговор важен: Лермонтов напомнит о нем Сушковой несколькими годами позже. Небезынтересно, что в других мемуарах первой половины XIX в. мы нередко встречаемся с похожей ситуацией. С. П. Жихарев рассказывал, как в юности он страдал от покровительственно снисходительного обхождения Арины Петровны Лобковой, вечно подтрунивавшей над его молодостью да еще делавшей своих подруг участницами этих насмешек. "Того и гляди, - пишет он, - что с ума сведет: велит себя звать не иначе, как ma tante, потому что двумя годами старше; а мне так иногда совсем не то приходит в голову".1 Более философски смотрел на такие отношения Герцен, говоря в "Былом и думах" о своей дружбе с Т. П. Пассек, которую он любил за то, что она обращалась с ним "по-человечески"; он смирялся с тем, что она не оставляла, впрочем, "докторальный авторитет, который девушки любят сохранять над мальчиками несколько лет моложе их".2
1 (Жихарев С, П. Записки современника. М, - Л., 1955, с. 25.)
2 (Рерцен А. И. Собр. соч. в 30 ти т., т. 8. М., 1956, с. 65.)
Именно этот "докторальный авторитет" слышится в разговоре Сушковой с Лермонтовым после того, как он стал дарить ей свои стихи: "Благодарю вас, monsieur Michel, за ваше посвящение и поздравляю вас, с какой скоростью из самых ничтожных слов вы извлекаете милые экспромты, но не рассердитесь за совет: обдумывайте и обрабатывайте ваши стихи, и со временем те, которых вы воспоете, будут гордиться вами. <...> Пишите, но пока для себя одного; я знаю, как вы самолюбивы, и потому даю вам этот совет, за него вы со временем будете меня благодарить" (116).
Следуя за рассказом Сушковой, мы должны считать, что ее знакомство с Лермонтовым в Москве продолжалось несколько месяцев: до поздней весны или начала лета, когда начался разъезд в подмосковные имения. В это время еще ни о каком цикле стихов нет речи; Лермонтов для Сушковой - маленький "кузен" Верещагиной, добровольный паж, который носит ее шляпку и зонтик и теряет ее перчатки. К ее удивлению, Сашенька однажды говорит ей: "Как Лермонтов влюблен в тебя!".
" - Лермонтов! да я не знаю его и, что всего лучше, в первый раз слышу его фамилию.
- Перестань притворяться, перестань скрытничать, ты не; знаешь Лермонтова? Ты не догадалась, что он любит тебя?
- Право, Сашенька, ничего не знаю и в глаза никогда не видала его, ни наяву, ни во сне.
- Мишель, - закричала она, - поди сюда, покажись. Catherine утверждает, что она тебя еще не рассмотрела, иди же скорее к нам.
- Вас я знаю, Мишель, и знаю довольно, чтоб долго помнить, вас, - сказала я вспыхнувшему от досады Лермонтову, - но мне ни разу не случилось слышать вашу фамилию, вот моя единственная вина, я считала вас по бабушке, Арсеньевым.
- А его вина, - подхватила немилосердно Сашенька, - это красть перчатки петербургских модниц, вздыхать по них, а они даже и не позаботятся осведомиться об его имени.
Мишель рассердился и на нее и на меня и опрометью побежал домой" (109).
Одно стихотворение из числа посланных Лермонтовым позднее Сушковой относится, впрочем, к этому периоду. Это "Весна" - первое печатное стихотворение поэта, появившееся в "Атенее" в сентябре 1830 г. под анаграммой (ценз, разр. - 10 мая).1 Трудно сказать, имелась ли в нем в виду именно Сушкова, или оно было затем послано "к случаю": лирическая ситуация в нем совершенно традиционна. Вместе с тем оно вполне соответствовало и ситуации реальной; насмешки старших девушек над юностью поклонника вполне могли вызвать с его стороны такого рода поэтическую "месть":
1 (Мануйлов В. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтоваt М.-Л., 1964, с. 35.)
Мечтанье злое грусть лелеет В душе неопытной моей. Гляжу, природа молодеет, Но молодеть лишь только ей; Ланит спокойных пламень алый С собою время уведет, И тот, кто так страдал, бывало, Любви к пей в сердце не найдет (1, 81).
Прервавшееся на время знакомство возобновляется уже летом 1830 г. в Середникове. Собственно с этого времени только и можно говорить о взаимоотношениях Лермонтова и Сушковой, которые стали позже зерном любовной интриги, а теперь дали начало лирическому циклу. Именно в это время Сушкова "предсказывает" Е. А. Арсеньевой "великого человека в косолапом и умном мальчике". Нет сомнения, что о подлинных масштабах таланта Лермонтова Сушкова судить не могла, но столь же несомненно, что поэзия Лермонтова привлекла ее внимание. "Он домогался попасть в юноши в наших глазах, декламировал нам Пушкина, Ламартина и был неразлучен с огромным Байроном. Бродит, бывало, по тенистым аллеям и притворяется углубленным в размышления, хотя ни малейшее наше движение не ускользало от его зоркого взгляда. Как любил он под вечерок пускаться с нами в самые сентиментальные суждения, а мы, чтоб подразнить его, в ответ подадим ему волан или веревочку, уверяя, что по его летам ему свойственнее прыгать и скакать, чем прикидываться непонятым и неоцененным снимком с первейших поэтов" (111).
Это отлично известное свидетельство Сушковой заслуживает все же, чтобы на нем остановиться еще раз. Пушкин, Ламартин и Байрон - имена, особенно популярные не только в литературной, но и в читательской среде. Их мы находим в альбоме Верещагиной (Верещ.I), где сохранились стихи Лермонтова, - прежде всего стихи "сушковского цикла". Стихотворение Ламартина "В альбом" вписано сюда рукой Сушковой; второе вписанное ею же стихотворение под тем же названием "В альбом" - известный перевод Козлова байроновских "Lines written in an Album at Malta". Это стихотворение мы встречаем в альбоме Верещагиной в нескольких переводах и переделках; так, на с. 122 записан перевод А. Бистрома (из "Московского телеграфа", 1825, ч. IV):
Подражание Лорду Байрону
Как имя на доске холодной, гробовой Вниманье путника невольно привлекает, Так остановится задумчивый взор твой, Коль на пустынной сей странице повстречает Мое, забытое тобой! Прочтешь, и мысленно меня вспомянешь ты, Как вспоминают тех, которых уж не стало! Так, здесь я схоронил заветные мечты И сердце все мое: оно давно увяло Среди надежд тщеты.
Стихотворение датировано 18 октября 1830 г.
Именно это стихотворение Байрона варьирует Лермонтов, делая запись в альбоме, о котором мы знаем из "Записок" Сушковой: "В это время (по-видимому, в 1831 г. - А. Г.) Сашенька прислала мне в подарок альбом, в который все мои московские подруги написали уверения в дружбе и любви. Конечно, дело не обошлось без Лермонтова" (134). На последнем листке этого не дошедшего до пас альбома было стихотворение Лермонтова "Нет, я не требую внимания", вторая строфа которого есть переложение "Lines written in an Album at Malta".
Это лишь один пример "общности вкусов"; можно привести и другие. Популярнейшее стихотворение Байрона "Farewell! if ever fondest prayer" было записано на с. 96 верещагинского альбома по-английски. На следующих страницах (98-99) находится его французский перевод, в прозе. И этому стихотворению Байрона Лермонтов отдает дань: летом 1830 г. - как раз в период тесного общения с Верещагиной и Сушковой - он делает его перевод ("Farewell").
При этом необходимо учесть одно существенное обстоятельство. Как для Лермонтова, так и для Верещагиной английская поэзия существует в это время не в переводе, а в подлиннике. В доме Е. Л. Столыпиной, тетки Верещагиной, детей учили английскому языку; у них был гувернер мистер Корд. Сушкову называли английским прозвищем Miss Black-Eyes, - и именно это прозвище дает тему первому стихотворению "сушковского цикла" "Вблизи тебя до этих пор"; сам Лермонтов сделал к нему следующее примечание: "При выезде из Середникова к Miss Black-Eyes. Шутка - предположенная от М. Kord" (6, 391). Поэтому в альбоме Верещагиной не редкость английские стихи в подлиннике: кроме стихотворения Байрона, мы находим здесь и стихи Т. Мура.1
1 (Из стихотворений Мура записаны следующие: "One dear smile", "Those evening bells", "Cease, oh cease to tempt", "Go then-'tis vain", "oh? Breathe not his name", "Sail on, sail on".)
Все эти справки имеют к нашей теме непосредственное отношение, так как увлечение Байроном в летние месяцы 1830 г. как бы наложилось на юношескую влюбленность Лермонтова в Сушкову и окрасило собою весь цикл посвященных ей стихов. Это явление гораздо сложнее, нежели просто литературное подражание; это попытка самопознания и целенаправленного формирования собственной личности - известный в современной психологии феномен, в последнее время разносторонне исследованный на литературном материале Л. Я. Гинзбург.1
1 (Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1971.)
Уже первые исследователи и биографы Лермонтова отмечали, что Лермонтову было свойственно отыскивать черты биографического сходства между собою и Байроном. Об этом он писал сам в юношеских автобиографических заметках. Мемуаристы, наблюдавшие Лермонтова со стороны, склонны были иногда рассматривать это как напускной "байронизм", позу. Новейшее исследование лермонтовской прозы в сопоставлении с дневниками Байрона наглядно показало, как в художественном творчестве Лермонтова преломлялись следы чтения Байрона; это усвоение было не "позой", а результатом углубленного самоанализа.1 Для раннего Лермонтова такая фронтальная работа не проделана, и сопоставление обычно ведется на уровне отдельных реминисценций. Между тем как раз процитированный нами фрагмент "Записок" Сушковой заставляет обратить внимание на одно обстоятельство, которое при таком сопоставлении обычно ускользает. "Огромный Байрон", о котором упоминает Сушкова, - это скорее всего не сочинения Байрона, а только что вышедший первый том биографии Байрона, написанный его другом, поэтом Т. Муром.2 О том, что Лермонтов был знаком именно с книгой Мура, есть его собственное свидетельство. На автографе стихотворения "К ***" ("Не думай, чтоб я был достоин сожаленья") он написал: "Прочитав жизнь Байрона (<написанную> Муром)" (1. 407).
1 (Дьяконова Н. Я. Из наблюдений над журналом Печорина. - Рус. лит., 1969, № 4, с. 115-125.)
2 (Letters and Journals of Lord Byron with Notices of his Life, vol. 1-2. By Thomas Moore. London, 1830.)
Читая книгу Мура, интересно задержаться на прямых совпадениях чисто биографического характера. Они отразились в автобиографических записях и некоторых стихотворениях Лермонтова.
Послание "Не думай, чтоб я был достоин сожаленья" является как бы итогом чтения биографии Байрона. В нем отмечены главные моменты сходства:
Я молод; но кипят па сердце звуки, И Байрона достигнуть я б хотел; У нас одна душа, одни и те же муки; О, если б одинаков был удел! .. Как он, ищу забвенья и свободы, Как он, в ребячестве пылал уж я дутой, Любил закат в горах, пенящиеся воды, И бурь земных и бурь небесных вой. Как он, ищу спокойствия напрасно, Гоним повсюду мыслию одной. Гляжу назад - прошедшее ужасно; Гляжу вперед - там нет души родной! (1, 133)
С особенным интересом пятнадцатилетний Лермонтов читал о ранних годах Байрона, вспоминая и свое детство.
Когда Байрону было восемь лет, мать повезла его в горы - поправиться после тяжелой болезни. С этого времени, писал он позже, "у меня появилась любовь к горным местам". "Пробуждение его поэтического таланта можно отнести к диким и величественным местам, среди которых он провел свое детство", - отмечает Myр.1 "Темные вершины Лох-на-Гара громоздились перед глазами будущего поэта, и стихи, которые он несколько лет спустя посвятил этому величественному предмету, показывают, что, хотя в то время он еще был очень молод, его "суровое" величие не прошло незамеченным:
1 (Ibid., vol. 1, p. 15 (далее при цитировании этой книги страницы указываются в тексте статьи).)
Ah, there my young footsteps in infancy wander'd, My cap was the bonnet, my cloak was the plaid; On chieftains long perish'd my memory ponder'd, As daily I strode through the pine-cover'd glade. I sought not my home till the day's dying glory Gave place to the rays of the bright polar-star; For fancy was cheer'd by traditional glory, Disclosed by the natives of dark Loch-na-Gar" (p. 14-15).
О своей любви к горам Байрон писал и в более поздних стихах, вспоминая о впечатлениях детства ("The Island", II, 12):
Не who first met the Highland's swelling blue, Will love each peak that shows a kindred hue, Hail in each crag a friend's familiar face, And clasp the mountain in his mind's embrace. Long have I roamed through lands which are not mine, ......................................... The infant rapture still survived the boy, And Loch-na-Gar with Ida look'ed o'er Troy, Mix'd Celtic memories with the Phrygian mount, And Highland linns with Castalie's clear fount.
Известно, что и Лермонтов приблизительно в том же возрасте увидел горы на Кавказе, куда его повезли лечиться. Страницы Мура, посвященные жизни Байрона в горах, стихи английского поэта, обращенные к горам, и "отзываются" в строке "Любил закат в горах...". К этому же времени относится стихотворение "Кавказ", некоторые строки которого напоминают стихи Байрона, приведенные Муром:
Хотя я судьбой на заре моих дней, О южные горы, отторгнут от вас, Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз. Я счастлив был с вами, ущелия гор. .. (1, 74).
Эти же мотивы слышатся в более позднем "Посвящении" к поэме "Демон":
От юных лет к тебе мечты мои Прикованы судьбою неизбежной... Еще ребенком робкими шагами Взбирался я на гордые скалы... С тех пор прошло тяжелых много лет, И вновь меня меж скал своих ты встретил. Как некогда ребенку, твой привет Изгнаннику был радостен и светел... Зубчатою тянулись полосой, Таинственней, синей одна другой, Все горы ... (4, 309)
Закат в горах был описан поэтом неоднократно; ему посвящены целые поэтические этюды, как например "Люблю я цепи синих гор".
Еще большее сходство с собственной биографией Лермонтов увидел в рассказах Мура о ранней любви Байрона. "Как он, в ребячестве пылал уж я душой", - отметил Лермонтов. .
"Это было в то время, - рассказывает Мур, - когда ему еще не исполнилось восьми лет, как чувство более сходное с любовью, чем это можно подозревать в ребенке этого возраста, охватило, как он это рассказывает сам, полностью его мысли, указывая на то, как рано эта страсть, как и многие другие страсти, проснулась в его характере" (р. 17). Вспоминая свою первую любовь, Байрон позже записал в дневник: "Как странно, что я так полностью, преданно был влюблен в эту девочку в возрасте, в котором я не мог ни чувствовать страсти, ни знать значение этого слова. <...> Как могло это случиться так рано? Как это могло возникнуть? После этого в течение многих лет у меня не было мыслей о любви. И все же мое страдание, моя любовь к этой девочке были настолько бурны, что мне иногда приходит в голову мысль, был ли я по-настоящему привязан с тех пор. <...> Это происшествие в моей жизни (мне еще не было восьми лет), которое было для меня загадкой и останется загадкой до ее последнего часа. <...> Как красив ее идеальный облик в моей памяти!" (р. 18-19).
По-видимому, чтение этого рассказа напоминало Лермонтову" что нечто подобное он испытывал сам: "Записка 1830 года, 8 июля. Ночь. Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея десять лет от роду?
Мы были большим семейством па водах Кавказских: бабушка, тетушка, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет. Но ее образ и теперь еще хранится в голове моей; он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату; она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни об чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть, сильная, хотя ребяческая, это была истинная любовь: с тех пор я еще не любил так. О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум! И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку без причины, желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату. Я не хотел говорить об ней и убегал, слыша ее названье (теперь я забыл его), как бы страшась, чтоб биение сердца и дрожащий голос не объяснил другим тайну, непонятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне мне неловко как-то спросить об этом; может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу, не поверят ее существованью - это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность - нет; с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз. Горы кавказские для меня священны... И так рано! в 10 лет... о, эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум!., иногда мне странно, и я готов смеяться над этой страстию! - по чаще плакать" (6, 385-386).
В этих выдержках дневникового характера близки не только ситуации, но и самый текст.1 Лермонтов читает книгу очень внимательно. От него не ускользают даже сноски, которые делает Мур. Так, замечание Альфиери, что душа, где рано проснулись чувства, "избрана для изящных искусств", которое Мур приводит в сноске (р. 17), появляется у Лермонтова тоже в сноске к вышеприведенной "записке": "Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. Я думаю, что в такой душе много музыки". Сама форма "записки" напоминает дневниковые записи Байрона, которыми документирована биография па всем своем протяжении. Возможно, под этим влиянием Лермонтов и начинает вести более или менее регулярные записки биографического характера, а также записывает сюжеты и набрасывает планы для будущих произведений в особой тетради.
1 (Интересны также параллели образов в стихотворении Байрона "When I rowed a young Highlander", посвященном его первой любви - Мэри Дафф, и стихотворении Лермонтова "Первая любовь" ("В ребячестве моем..."):
Yet it could not be love, for I knew not the name,- What passion can dwell in the heart of a child? But still I perceive an emotion the same As I felt, when a boy, on the crag-cover'd wild...
)
И вторая любовь Лермонтова была сходна с байроновской. Байрону было двенадцать лет, когда оп влюбился в свою двоюродную сестру, которая была двумя годами старше его. Ей были посвящены первые стихи поэта. "Это было" взрывом страсти к моей двоюродной сестре, Маргарите Паркер <...> одному из самых прелестных воздушных существ. (...) Мне было около двенадцати, она немножко старше... Но я был глуп тогда..." (р. 35-36). "1830 (мне 15 лет), - записывает Лермонтов. - Я однажды (три года назад) украл у одной девушки, которой было 17 лет, и потому безнадежно любимой мною, бисерный синий снурок; он и теперь у меня хранится.
Кто хочет узнать имя девушки, пускай спросит у двоюродной сестры моей. Как я был глуп!.." (6, 386-387).
"Еще сходство в жизни моей с лордом Байроном, - продолжает Лермонтов своп записи. - Его матери в Шотландии предсказала старуха, что он будет великий человек и будет два раза женат; про меня на Кавказе предсказала то же самое старуха моей бабушке. Дай бог, чтоб и надо мной сбылось; хотя б я был так же несчастлив, как Байрон" (6, 387).1
1 (Ср. у Мура: "...гадалка, к которой обратилась его мать, сделала предсказание о нем, которое надолго оставило сильное впечатление. <...> было предрешено, что он был в опасности быть отравленным до достижения совершеннолетия и что он должен был быть женат дважды, второй раз на иностранке" (р. 37-38).)
К этим параллелям мы можем добавить еще одну запись: "Мое завещание (про дерево, где я сидел с А. С.)": "Похороните мои кости под этой сухою яблоней; положите камень; и - пускай на нем ничего не будет написано, если одного имени моего не довольно будет доставить ему бессмертие!" (6, 387). Это вольный перевод стихотворения Байрона "A Fragment", которое приводит Мур (р. 52):
My epitaph shall be my name alone; If that with honour fail to crown my clay, Oh may no other fame my deeds repay; That, ohly that, shall single out the spot; By that remember'd, or with that forgot.
Образ дерева, умершего прежде поэта, появляется в рассказе-Мура о дубе, который Байрон посадил в надежде, что его собственная жизнь будет развиваться подобно жизни этого дерева. Приехав через несколько лет посмотреть на дуб, Байрон нашел его почти засохшим (р. 101-102).1
1 (См. также "То an Oak at N ewstead" ("Young oak, when I planted the deep m the ground") Байрона и "Дереву" ("Давно ли с зеленью радушной") Лермонтова.)
Но, вероятно, самое разительное сходство между собой и Байроном Лермонтов должен был найти в истории третьей любви Байрона. Мур рассказывает: "Это было в 1803 году, когда в его сердце, которое, как мы уже видели, дважды отдавалось детской мысли, что оно любило, возникло чувство, которое, как ни был он молод для таких эмоций, настолько глубоко врезалось в его ум, что наложило отпечаток на всю его будущую жизнь. Что неудачная любовь обычно бывает самой продолжительной - это истина, которая, как 6w она ни была горька, к сожалению, не нуждалась в данном случае в подтверждении" (р. 53).
Третьей любовью Байрона была Мэри Энн Чаворт, соседка его по имению. Поэту шел шестнадцатый год. Девушка была на два года старше его. "Шести коротких недель, которые он провел в ее обществе, было достаточно, чтобы заложить основу чувству, которое длилось всю жизнь". В течение лета Байрон сопровождал Мэри и ее двоюродную сестру в прогулках, в поездках по достопримечательным местам окрестностей. По вечерам бывали танцы, и Мэри принимала в них участие. Байрон сидел в одиночестве и страдал, "глядя, как другие сопровождали "деву его любви" к веселому танцу, в то время как он туда доступа не имел. <...> Все это время он болезненно сознавал, что сердце той, которую он любил, было отдано другому, что, как он сам писал:
Her sighs were not for him: to her he was Even as brother - but no more" (p. 55).
"Соя" принадлежал к числу наиболее популярных в России произведений Байрона. В разных стихотворениях Лермонтова мы встречаем восходящие к нему образы, строки и эпизоды ("Видение" ("Я видел юношу..."), "Сон" ("Я видел сон..."), "11 июля"). Это стихотворение Лермонтов собирался переводить в прозе для Верещагиной (6,375). В данном случае нам интересно не только стихотворение Байрона, но и комментарии Мура. "Если бы даже сердце ее было свободно, - пишет он, - вряд ли она избрала бы Байрона. Когда девушка на два года старше и приближается к расцвету женственности, у нее есть преимущества в жизни, за которыми мальчик угнаться не может. Мисс Чаворт смотрела на Байрона как на простого школьника. В его манерах в это время было нечто грубое и странное, что отнюдь не обеспечивало ему успеха у девочек его возраста. Но если в какой-то момент он и льстил себе надеждой быть любимым ею, то происшествие, о котором он говорит в своем "Дневнике", одно из самых мучительных унижений, какие он испытал от своей хромоты, должно было открыть его сердцу истину во всей ее ужасной наготе. Ему рассказали, или он сам услышал, как мисс Чаворт сказала горничной: "Неужели вы думаете, что я могла бы заинтересоваться хромым мальчиком?". Эта фраза, как он это сам описал, поразила его сердце, как выстрел. <...> Свою юношескую любовь он запечатлел в одном из самых его интересных стихотворений "Сои"" (р. 55-50). Наиболее интересна для пас в данном случае первая картина "Сна": отголоски летних прогулок поэта с Мэри Чаворт. Здесь с горечью очерчены их отношения и подчеркнута именно разница лет и положения в обществе:
I saw two beings in the hues of youth Standing upon a hill... .......................................... Those two, a maiden and a youth, were there Gazing - the one on all that was beneath Fair as herself - but the boy gazed on her; And both were young, and one was beautiful: And both were young - yet not alike in youth. As the sweet moon on the horizon's verge, The maid was on the eve of womanhood; The boy had fewer summers, but his heart Had far outgrown his years, and to his eye There was but one beloved face on earth, And that was shining on him; he had look'd Upon it till it could not pass away; He had no breath, no being, but in hers; She was his voice; he did not speak to her, But trembled on her words; she was his sight, For his eye follow'd hers, and saw with hers Which colour'd all his objects, - he had ceased To live within himself; she was his life, The ocean to the river of his thoughts, Which terminated all: upon a tone, A touch of hers, his blood would ebb and flow, And his cheek change tempestuously - his heart Unknowing of its cause of agony. But she in these fond feelings had no share: Her sighs were not for him; to her he was Even as a brother - but no more...
Картина, данная в стихотворении, очень похожа на ту, которую описывает Сушкова в своих "Записках". Эта аналогия становится еще более разительной при сопоставлении рассказа Мура и собственных автобиографических признаний Лермонтова. Любопытно, что два стихотворения Байрона, отразившиеся в "сушковском цикле", - "Stanzas to a Lady on Leaving England" ("Стансы к***, написанные при отплытии из Англии") и "Epistle to a Friend in Answer to some Lines exhorting the Author to be cheerful and to "banish care"" ("Послание к другу в ответ на стихи, увещевающие автора быть веселым") - приведены у Мура и связаны с именем Мэри Чаворт (р. 301-302).
Все эти впечатления и ассоциации откладываются в поэтическом сознании Лермонтова летом 1830 г. и в ближайшие же месяцы закрепляются в стихах и автобиографических набросках. Первые стихи "сушковского цикла" лишены каких-либо связей с Байроном. Сушкова рассказывала, что первое стихотворение, адресованное ей, она получила от Лермонтова при отъезде из Сере днпкова в Москву, 12 августа 1830 г. Это было стихотворение "Черноокой", содержавшее полупризнание в любви и как бы отмечавшее начальную фазу развивающегося чувства. Сушкова приняла стихи благосклонно, и юный поэт поспешил откликнуться ("Благодарю!.. Вчера мое признанье II стих мой ты без смеха приняла..."). Следующие стихи ("Зови надежду сновиденьем") содержали уже прямое признание, как известно но встретившее ответа. Тогда пишется "Нищий" - с мотивом неразделенной любви ("Так чувства лучшие мои Обмануты навек тобою!").
Все эти стихи, в которых ощущается нарастающий драматизм, в большей или меньшей степени привязаны к конкретным ситуациям и, пожалуй, в наибольшей мере похожи на дневниковую запись, - различие в том, что они пишутся не для себя, а в расчете на прочтение и реакцию. По ним можно следить за изменениями душевного состояния поэта; в этом смысле они, конечно, "аутентичны". Следующая группа стихов заметно от них обособляется. Сюда входят "Стансы" ("Взгляни, как мой спокоен взор"), "У ног других не забывал" и "Когда к тебе молвы рассказ". Эти стихи есть своего рода кульминация эмоционального напряжения. Они пишутся не сразу после первой группы, а спустя некоторое время, когда Лермонтов услышал от Верещагиной о светских успехах предмета своей страсти.
Рассказы Верещагиной были, по-видимому, очень яркими а подробными и вызывали в Лермонтове чувства обиды и ревности. Об этих чувствах Лермонтов говорил Сушковой в "Стансах" ("Взгляни, как мой спокоен взор"). Перерабатывая это стихотворение, он рисует на полях тетради красивую девушку с большими черными глазами, длинными черными волосами и гордой осанкой.
Влияние Байрона в "Стансах" сказывается не только в области тематики и композиции; поэт заимствует образы и мотивы, которые наиболее точно передают его чувства. Из уже упомянутых нами автобиографических стихов Байрона, прежде всего "Стансов к***, написанных при отплытии из Англии", берутся опорные строки: "Я жертвовал другим страстям ("I've tried another's fetters too") и "Я не могу любить другой" ("Because I cannot love but one"). Они варьируются и в следующем же стихотворении, которое Лермонтов передает Сушковой, - "У ног других не забывал":
Любя других, я лишь страдал Любовью прежних дней. ........................... "Люблю ее одну".
Стихотворение "У ног других не забывал" имеет позднюю редакцию ("К Л."), где добавлена еще одна строфа, построенная на образах первой и пятой строф байроновских "Стансов", и обрисовывается облик изменившей поэту девушки, - так, как это сделано в байроновском "Послании к другу. . .". Подзаголовок уже точно указывает на источник: "Подражание Байрону".
Раннюю же редакцию этого стихотворения ("У ног других не забывал"), состоящую из двух строф, Сушкова впервые опубликовала в 1857 г.; она относила его к себе и датировала сентябрем 1830 г. - временем, когда она вернулась из деревни в Москву.
Биографы Лермонтова, начиная с П. А. Висковатого, ставили под сомнение указание Сушковой. Висковатый замечал, что стихотворение "У ног других не забывал", как "положительно известно", "написано к Л<опухин>ой"1. Ю. Г. Оксман, комментируя "Записки", оспорил это возражение, предположив, что Верещагина, приславшая эти стихи Сушковой, намеренно мистифицировала подругу, передав ей стихи, посвященные другому лицу, и что тем самым ошибка Сушковой оказалась вполне естественной (128). Однако, как мы видим, стихи эти теснейшим образом связаны со всем "сушковеким циклом". Альбом Верещагиной, содержащий также раннюю, двухстрофную, редакцию этого стихотворения (с некоторыми разночтениями), не дает названия "К Л."; здесь оно названо "К***". У нас есть все основания полагать, что Сушкова не ошиблась и что мы имеем дело с довольно обычной переадресовкой, которую получило стихотворение в поздней редакции.
1 (Висковатый П. А. По поводу "Княгини Литовской".- Рус. вести., 1882, № 3, с. 335.)
Следует указать еще на одно стихотворение, которое до сих пор не рассматривалось как принадлежащее к "сушковскому циклу", но которое здесь нельзя не учесть: оно содержит заимствования все из тех же двух стихотворений Байрона и дату "1830 года ночью. Августа 28", т. е. написано через два дня после "Стансов". Это стихотворение "Ночь", где появляются конкретные автобиографические ситуации и детали:
Одни я в тишине ночной; Свеча сгоревшая трещит. Перо в тетрадке записной Головку женскую чертит.
Как уже было сказано выше, стихотворение "Стансы" Лермонтов иллюстрировал женской головкой, очень сходной с миниатюрным портретом Сушковой. Оба стихотворения находятся в тетради VIII.1
1 (ИРЛИ, ф. 524 (М. Ю. Лермонтов), оп. 1, ед. хр. 8 (тетр. VIII) ("Ночь" - л. 1, "Стансы" - л. 12).)
Третья строфа "Ночи" - вновь пересказ рефрена байроновских "Стансов":
Сей взор невыносимый, он Бежит за мною, как призрак; И я до гроба осужден Другого не любить никак (1, 163).
Следующее стихотворение, которое Лермонтов дарит Сушковой, содержало упрек и, как говорила она в "Записках", "грозно предвещало" ей будущее:
Когда к тебе молвы рассказ Мое названье принесет И моего рожденья час Перед полмиром проклянет, Когда мне пищей станет кровь, И буду жить среди людей, Ничью не радуя люоовь И злобы не боясь ничьей: Тогда раскаянья кинжал Пронзит тебя... (1, 165)
Эти стихи - довольно близкий пересказ последней части байроповского "Послания к другу":
But if, in some succeeding year, Thou hear'st of one, whose deepening crimes Suit with the sablest of the times, Of one, whom love nor pity sways, Nor hope of fame, nor good men's praise... Him wilt thou know...
В стихотворении "Когда к тебе молвы рассказ" впервые в "сушковском цикле" появляется лирический герой байронического типа.
Первая часть "Послания к другу..." отразилась и в "Подражании Байрону", которое также датируется 1830 или 1831 г. Здесь мы опять встречаем варианты рефрена "Я не могу любить другой". Последняя строфа является переводом байроновских строк:
And I have acted well my part, And made my cheek belie my heart, Return'd the freezing glance she gave... ................................ Have kiss'd, as if without design, The babe which ought to have been mine, And show'd, alas! in each caress Time had not made me love the less.
И вынесть мог сей взор ледяный я
И мог тогда ей тем же отвечать,
Увижу на руках ее дитя
И стану я при ней его ласкать,
И в каждой ласке мать узнает
вновь,
Что время не могло учесть любовь!.. (1,268)
Все вышеприведенные стихи, входящие в "сушковский цикл", связаны собственно только с двумя стихотворениями Байрона, которые приводит Мур. "Эти стихи, - пишет Мур, - показывают, с какой настойчивостью он возвращался к разочарованию в своей ранней любви как главной причине всех своих переживаний и ошибок, настоящих и будущих" (р. 301). Для Лермонтова эти стихи содержали тот поэтический материал, который помогал ему уяснить и более отчетливо выразить свои переживания, близкие тем, которые испытал его любимый поэт. Заимствуя и подражая, Лермонтов учился, стараясь при этом найти своп собственные, индивидуальные черты. У Мура Лермонтов прочел, что и Байрон в своем раннем творчестве прошел такую же школу. Пройдет время, и Лермонтов отделит себя от своего учителя, заявив: "Нет, я не Байрон, я другой".
Таким образом, в "сушковском цикле" стихов можно отметить две группы. Более ранние, написанные в Середникове, представляют собою традиционную любовную лирику с признаниями в пылкой страсти и с элегическими мотивами. Вместе с тем они являются и лирическим дневником. Вторая группа стихов, только что рассмотренная нами, отличается от первой своим более обобщенным характером. В отличие от первой группы, которая в дальнейшем у Лермонтова не варьируется и не перерабатывается, эта вторая содержит такие лирические мотивы и темы, которые затем перейдут в позднюю лермонтовскую лирику. Душевный опыт, отложившийся в них, выходит далеко за пределы конкретной ситуации. Эти стихи есть определенная ступень самосознания личности, связь же их с байроновским циклом, посвященным Мэри Чаворт, является, помимо всего прочего, важным подтверждением правдивости рассказа Сушковой о том, что именно она была их непосредственным адресатом.
Если первый эпизод отношений Лермонтова и Сушковой связан с ранней лирикой поэта, то "развязка" этого "романа" связана с его прозой. Как известно, Лермонтов подробно описал ее в "Княгине Литовской". Как и первый эпизод, последний проходит под знаком литературных воздействий. Вообще литературный элемент настолько ярко окрашивает эти отношения, что вопрос о "реальных" портретах Лермонтова и Сушковой в середине 1830-х годов приобретает особое значение.
Со времени отъезда Сушковой из Москвы в 1830 г. Лермонтов не встречался с ней до конца 1834 г. Вначале они поддерживали связи через Верещагину, но затем эти связи, по-видимому, прекратились. Во всяком случае, об их отношениях в это время у нас нет никаких данных. К началу 1830-х годов относится увлечение Лермонтова П. Ф. Ивановой, а затем В. А. Лопухиной. Приехав в Петербург в 1832 г., Лермонтов встречи с Сушковой не искал; она же была слишком занята светом и поисками выгодной партии, чтобы вспомнить о своем московском знакомом.
За эти годы жизнь в доме тетушки для Сушковой намного ухудшилась. Ее по-прежнему огорчают бесконечные столкновения с родными. Единственным спасением для Сушковой было выйти замуж. Однако те, кто ей нравился, по-видимому, предложения не делали, а если и делали, то им отказывали родные. Другим женихам, в частности тем, которые нравились тетке, отказывала она сама. Это обостряло конфликты. Чем дольше она ждала, тем больше грозила ей опасность "засидеться в девках", а то и вообще потерять надежду выйти замуж. Так как девушку начинали вывозить в свет в шестнадцать лет, то опасность стать "перезрелой" девицей возникала перед ней уже в двадцать лет.1 Эта печальная картина ярко вырисовывается из дневников и писем ее современниц, начиная от А. А. Олениной и вплоть до великой княжны Ольги Николаевны, которая грустно задумывалась, "... не обречена ли и я (...) на девственность".2 Ольга Николаевна вышла замуж поздно; ей было двадцать четыре года, когда состоялось событие, о котором она "мечтала в течение семи лет".
1 (Так, А. А. Оленина записала в своем дневнике в день своего рождения: "Мне минуло, увы, 20 лет. О боже, как я стара, но что же делать?" (Дневник Анны Алексеевны Олениной. (1828 - 1829). Париж, 1936, с. 21).)
2 (Сон юности. Записки дочери Николая I великой княжны Ольги Николаевны, королевы Вюртембергской. Париж, 1963, с. 176.)
Сцены, которые Сушковой приходилось переносить дома, Лермонтов изобразил в романе "Княгиня Литовская", - в эпизодах с Негуровым, его женой и дочерью Лизаветой Николаевной (прототипом ее была Сушкова) (6, 139).
Судя по ее "Запискам" и дневнику, Сушкова бросалась от одной крайности к другой: от надежд на идеального мужа к отчаянному намерению выйти "за первого встречного" (142). Но больше всего она мечтала о романтической любви: "Господи, - повторяла я себе с отчаянием, - неужели я никогда не буду любить?" (164).
В "Княгине Литовской" светские успехи Сушковой - Негуровой охарактеризованы довольно зло. При первом вступлении в свет ее окружали поклонники случайные и "прескушные: им отказали...". С течением времени она "сделалась опытной и бойкой девою: смотрела на всех в лорнет, обращалась очень смело, не краснела от двусмысленной речи или взора - и вокруг нее стали увиваться розовые юноши", которых она "останавливала едкой насмешкой". "Вздыхающий рой разлетелся в разные стороны... и, наконец, для Лизаветы Николаевны наступил период самый мучительный и опасный сердцу отцветающей женщины..." (6, 142).
Негурова в "Княгине Лиговской" чуть старше, чем Сушкова была на самом деле. Ей в это время было двадцать два года, и она была очень красива; но Лермонтов был вправе считать ее "старой кокеткой". Печорин считает 25-летнюю Негурову увядшей красавицей. Она вступила в тот период, когда ветреники и беспечные франты говорят ей "нежности шепотом, а вслух колкости", а несчастный объект сомнительного обожания "из одного самолюбия старается удержать шалуна как можно долее у ног своих". "За этим периодом остаются только мечты о муже, каком-нибудь муже ... одни мечты" (6, 142-143).
В этом портрете Лермонтов несколько сгустил краски; он не соответствовал реальному облику Сушковой. У нее было много поклонников, просивших ее руки. Она была не только кокетка и разборчивая невеста. Некоторые замечания в "Записках" показывают, что она смотрела на своих поклонников довольно трезво. Незадолго до встречи с Лермонтовым она отказала одному генерал-адъютанту. "Все видели в этой партии блеск и почет, а я ничего другого, кроме лысой и даже не совсем здравой головы", - пишет она. К тому же у нее был поклонник молодой, красивый и богатый, который ей нравился и за которого она была готова выйти замуж. Это был кузен Сашеньки Верещагиной, А. А. Лопухин.
С Лопухиным Сушкова познакомилась в свой приезд в Москву в 1833 г. Она виделась с ним у своей подруги почти ежедневно. После первой встречи Сушкова записала в дневнике: "С первого взгляда мое суждение отдало (Лопухину. А. Г.) пальму первенства перед всеми молодыми людьми, которых я видела прежде" (255). Чем больше она проводила с ним времени, тем больше он ей нравился. "Сашенька очень счастлива в своих кузенах, я знаю из них двоих, которые оба так милы, так любезны, что я бы охотно уступила ей за этих полдюжины моих" (257). Это беглое упоминание о Лермонтове показывает, что Сушкова вспоминает о нем с удовольствием и вполне дружески.
Как и в прошлый раз, Верещагина становится поверенной в отношениях между Сушковой и Лопухиным. Не отличаясь особенной скромностью в сохранении чужих секретов, Верещагина рассказывала Лопухину все, что ей поверяла Сушкова, Лопухин 8нал все ее "приключения" и проявлял к ней участие. Между ними установились близкие и откровенные отношения.
История с Лопухиным, записанная в дневнике, резко отличается от переданной в "Записках". В дневниковых записях имя Лермонтова, за исключением беглого замечания о "милом кузеке", не упоминается. Напротив, видно, как Сушкова более и более увлекается Лопухиным. Ей нравятся его мечтательность, его серьезность, его внимательность. Он разделяет ее любовь к поэзии, особенно к стихам Ламартина. У них вообще много общих интересов. В "Записках" Лопухин выступает только как богатый жених, Сушковой не неприятный.
В дневниковых записях характер Сушковой проявляется более отчетливо, чем в "Записках". Она очень живая, восторженная в своих увлечениях, резкая в своей неприязни и суждениях о людях, которые ей не нравятся. Видно, что она сильно привязалась к Сашеньке. Судя по тому, как она всецело отдается дружбе с Верещагиной, можно поверить, что она действительно - "восторженна и страстна".
Родные Лопухина и круг Верещагиной смотрели на роман Сушковой неблагосклонно. За нею уже прочно установилась репутация кокетки, черта, которую Лермонтов особенно подчеркнул в Негуровой. Что-то нелестное о ней писала старшая сестра Лопухина, Мария Александровна. Ее письмо не сохранилось, но из ответа Лермонтова от 19 июля видно, что Лопухина обвиняла Сушкову в каких-то интригах. "Я верю вам, - писал поэт, - что С. фальшива, потому что знаю, что вы никогда не исказите истины, особенно в дурную сторону! Бог с ней!" (6, 713). К этому времени относятся московские записи в дневнике Сушковой, в которых она с восхищением рассказывает о начале знакомства с Лопухиным. Недоброжелательство Марии Александровны психологически было вполне понятно: возраст (ей было за тридцать лет) и физические недостатки (она была некрасива и горбата) сделали ее ожесточенной и завистливой.
Сближение Сушковой с Лопухиным не понравилось также и Верещагиной. Вначале она, по-видимому, старалась возбудить в Лопухине ревность и подозрительность, обращая его внимание на то, как легко Сушкова привлекала к себе поклонников. При Лопухине она не раз заговаривала о "страсти", которую Сушкова якобы "внушала Лермонтову"; она рассказывала Лопухину о ревности "влюбленного отрока-поэта" и декламировала посвященные Сушковой лермонтовские стихи (с. 149).
Стихотворения "Еврейская мелодия" и "Романс", которые Верещагина читала Лопухину, как и другие стихи сушковского цикла, навеяны Байроном. Тема, а также некоторые строки "Мелодии" напоминают "Sun of the Sleeplces" из "Hebrew Melodies":
Sun of the sleepless! melancholy
star!
Whose tearful beam glows
tremulously far...
How like art thou to joy remembcr'd
well!
So gleams the past, the light of
other days...
Я видал иногда, как ночная звезда
В зеркальном заливе блестит;
Как трепещет в струях...
Светлой радости так беспокойный
призрак
Нас манит под хладною мглой... (1, 100)
На "Романсе" сказалось влияние двух стихотворений Байрона, носящих одинаковое название - "Stanzas for Music". Из первого стихотворения "Stanzas for Music" ("I speak not, I trace not", 1814) поэт заимствует последние два стиха первого четверостишия:
I speak not, I trace not, I breathe
not thy name,
There is grief in the sound, there
is guilt in the fame:
But the tear which now burns
on my cheek may impart
The deep thoughts that dwell in the
silence of heart.
Но в сердце разбитом есть тайная
келья,
Где черные мысли живут.
Слеза по щеке огневая катится -
Она не из сердца идет (1, 320).
Первые две строки стихотворения Байрона поэт позже использует в стихотворении "Стансы. К Д***":
Я не могу ни произнесть, Ни написать твое названье: Для сердца тайное страданье В его знакомых звуках есть (1, 231).
Между вторым стихотворением Байрона "Stanzas for Music" ("There's not a joy the world can give") и "Романсом" можно провести следующие параллели:
It cannot feel for others' woes, it dare not dream its own... Then the few whose spirits float above the wreck of happiness And driven o'er the shoals of guilt or ocean of excess: The magnet of their course is gone, or only points in vain The shore to which their shiver'd sail shall never stretch again.
Когда я свои презираю мученья, - Что мне до страданий чужих? Он вновь призывает к оставленной сени, Как в бурю над морем маяк, Когда ураган по волнам веселится, Смеется над бедным челном, И с криком пловец без надежд воротиться Жалеет о крае родном (1, 320).
По свидетельству Сушковой, Верещагина читала эти стихи Лопухину, подчеркивая "некоторые выражения". Такие фразы, как "обманчивы луч и волна", должны были характеризовать Сушкову. Таким образом Верещагина старалась предупредить и образумить Лопухина.
Летом 1833 г. Сушкова уехала из Москвы. На этом ее отношения с Лопухиным прекратились. Возобновились они год спустя, осенью 1834 г. За это время у Лопухина умер отец. Если раньше отец и родственники могли препятствовать его браку с Сушковой по его крайней молодости, то теперь он был независимым и богатым наследником. Зная, что Верещагина переписывается с Сушковой, Лопухин, по-видимому, обратился к пей за помощью. Верещагина сделала вид, что сочувствует ему, и взяла на себя роль свахи. На самом деле она сделала все возможное, чтобы удалить от Лопухина Сушкову, недостойную, по мнению родственников, стать его женой.
Льстя самолюбию Сушковой и выполняя обязанности, возложенные на нее Лопухиным, Верещагина добивалась того, чтобы Сушкова не разглашала намерения Лопухина своим родственникам. Лопухин также должен был молчать, пока не поговорит с Сушковой. "Сашенька (...) подтверждала хранить тайну, потому что и он никому из своих родных ничего не откроет до объяснения со мной" (167).
Единственный человек, который был посвящен Верещагиной в детали этой истории, был Лермонтов. При встрече с Сушковой в 1834 г. Лермонтов говорил ей, что знал все об ее отношениях с Лопухиным. "Да, я знал и прежде, что вы в Москве очень благоволили к нему, а он-то совсем растаял; я знаю все, помните ли Нескучное, превратившееся в Скучное, букет из незабудок, страстные стихи в альбоме? Да, я все тогда же знал..." (174). Лермонтов уверял Сушкову, что ему все это рассказывал сам Лопухин. Однако более вероятно, что о всех подробностях летних встреч Лопухина и Сушковой Лермонтов мог знать только от Верещагиной, которая обратилась к Лермонтову с просьбой расстроить возможный брак. Осенью 1834 г. Сушкова и Верещагина обменялись несколькими письмами о Лопухине. Приезд Лопухина назначался на декабрь месяц. 4 декабря Лермонтов встретился с Сушковой. 21 декабря Лопухин был в Петербурге. 23 декабря Лермонтов предупредил Марию Александровну об увлечении ее брата Сушковой. 5 января 1835 г. Лопухин возвратился в Москву. Тогда же Лермонтов послал Сушковой анонимное письмо. 8 января ого уже не принимали у Беклешевых. Вся интрига была разыграна в течение нескольких недель.
4 декабря Лермонтов встретил Сушкову на балу. "Я знал, что вы будете здесь, караулил вас у дверей, чтоб первому ангажировать вас" (168). В это время Сушкова уже считала себя помолвленной с Лопухиным: "...я (...) успокоилась насчет своей будущности, старалась убедить себя, что я его люблю, принуждала себя беспрестанно думать о нем - но любовь не зарождалась, а я все ждала ее" (167-168). Во время танцев Лермонтов, стараясь, по-видимому, объяснить ей свое неожиданное появление, объявил, что он только что произведен в офицеры и специально явился, чтобы найти ее: "... я поспешил похвастаться перед вами моим гусарским мундиром и пойми эполетами; они дают мне право танцевать с вами мазурку; видите ли, как я злопамятен, я не забыл косого конногвардейца, оттого в юнкерском мундире я избегал случая встречать вас; помню, как жестоко вы обращались со мной, когда я носил студенческую курточку" (169). Лермонтов старался напомнить Сушковой прошлое, но для нее их московские встречи не имели никакого значения. Лермонтов был тогда ребенком, Сушкова была молода; теперь же она "во многом переменилась" и пошла бы с ним танцевать, даже если бы он не носил мундир. "Не является ли такая перемена следствием влюбленности", - замечает ей колко Лермонтов и заговаривает о Лопухине: "Как хорошо, как звучно называться Madame de Lopoukhine (...) не правда ли? Согласились бы вы принять его имя?" (170). Таким вопросом Лермонтов озадачил Сушкову: ведь история с Лопухиным держалась в тайне, а Лермонтов о ней знал. "Да, я знал и прежде, что вы в Москве очень благоволили к нему (...), - заметил Лермонтов. - Да, я все тогда же знал и теперь знаю, с какими надеждами он сюда едет. (...) Я просто друг Л<опу>хина, и у него нет от меня ни одной скрытой мысли, ни одного задушевного желания" (174). Мнимая болтливость Лопухина задевает Сушкову: "От меня требовал молчания, а сам, без моего согласия, поверял нашу тайну своим друзьям, а может быть, и хвастался влиянием своим на меня". В течение разговора она убедилась в том, что Лермонтов знает все и находится "в беспрерывной переписке с Л<опу>хиным". "Он распространялся о доброте его сердца, о ничтожности его ума, а более всего напирал, с колкостью, о его богатстве" (170-172).
Все это очень важно. Лермонтов поселяет недоверие в Сушковой. Она настораживается. Не обманывают ли ее? Нет ли здесь интриги со стороны Лопухина? Интрига есть, но Лопухин к ней непричастен. Ее ведет Лермонтов и ведет блестяще. Только в самом конце, когда уже все кончено, комедия разыграна, Сушкова поймет, что ее зло обманули.
Добиваясь любви Сушковой, Лермонтов руководствовался, конечно, не только желанием "мести"; в первую очередь он хотел доказать другу, что его пассия всего лишь легкомысленная кокетка.
Что же могло заставить женщин увлекаться Лермонтовым? Что заставило Сушкову влюбиться в него? Портрет его, оставленный нам современниками, не отличается привлекательностью. Как поэт он в это время был известен в очень небольшом дружеском кругу. Ответа следует искать в некоторых беглых замечаниях современников, в "Записках" самой Сушковой и в описании характера Печорина в "Княгине Литовской" и Лугина в неоконченной повести "Штосе". "Мне точно случалось возбуждать в иных женщинах все признаки страсти - но (...) я очень знаю, что в этом обязан только искусству и привычке кстати трогать некоторые струны человеческого сердца..." - признается Лугин. Эту же черту в Лермонтове отметил А. М. Меринский. знавший поэта именно в то время, когда он встречался с Сушковой: "Знанием сердца женского, силою своих речей и чувства он успевал располагать к себе женщин...". "Он забавлялся тем, - писала Ростопчина, - что сводил с ума женщин с целью потом их покидать и оставлять в тщетном ожидании (...) он старался доказать самому себе, что женщины могут его любить, несмотря на его малый рост и некрасивую наружность".1 В искусстве любовной интриги, любовной мистификации упражнялся большой свет. Во гремя своего дебюта в петербургском обществе Лермонтов применил это искусство к светской львице, которая сама не раз играла в эту игру.
1 (М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. М., 1072, с. 134-135, 282. Ср. аналогичные наблюдения над светским поведением Вяземского в дневнике Д. Ф. Фикельмоп: "Вяземский, несмотря на то что он крайне некрасив, обладает в полной мере самоуверенностью красавца мужчины: он ухаживает за всеми женщинами и всегда с надеждой на успех" (Каuchtschischwili N. Il Diario di Dar'ja Fedorovna Ficquelmont. Milano, 1969, p. 125-127, 139). Близкие свидетельства оставили современники и о Пушкине (см.: А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1. М., 1974, с. 21-22).)
Правила и стадии игры в любовь ярко охарактеризованы в "Евгении Онегине". Пушкин перечисляет те эмоциональные этапы, которые так хорошо и так рано усвоил Евгений. В строфах X, XI, XII первой главы романа словно намечена канва взаимоотношений Лермонтова, Сушковой и Лопухина.
Нам нет надобности детально останавливаться на перипетиях интриги, подробно рассказанной Сушковой в ее "Записках". Напомним лишь ее основные этапы. Она начинается с мнимой ревности Лермонтова, причем Лермонтов намеренно подчеркивает основное преимущество Лопухина - его богатство. На стороне его соперника (т. е., как он дает понять, его самого) - только пылкость чувства, восприимчивость и ум; он глубоко несчастлив и ждет спасения от любящего существа. Это романтическая модель отношений, которая подсказывает единственный выбор - в пользу последнего. Далее - имитация страстной сцены с поцелуем, которая окончательно убеждает Лермонтова, что он добился ответного чувства. Следующий этап развития сюжета - мнимая подготовка дуэли двух соперников - Лермонтова и Лопухина.
Интрига развивается по канонам романтической повести. Дуэль соперников-друзей находит аналогии и в "Онегине". Сушкова вспоминала, что сцена грядущей дуэли постоянно рисовалась ее воображению; об этом она рассказывала и М. И. Семевскому, упоминая, что "по этому случаю" Лермонтов написал стихотворение "Сон". Она передавала слова Лермонтова: "...вы мне сегодня дали мысль для одного стихотворения <...>. Вы мне с таким увлечением сказали, что в кругу блеска, шума, танцев вы только видите меня, раненого, умирающего, и в этот момент вы улыбались для толпы, но ваш голос дрожал от волнения; но на глазах блестели слезы, и со временем я опишу это. Узнаете ли вы себя в моих произведениях?" (191-192). "Сон" написан в 1841 г. Когда Сушкова писала мемуары, она уже знала это стихотворение и, конечно, спроецировала его задним числом на какой-то разговор с Лермонтовым. Однако не исключено, что первоначальный замысел стихотворения действительно как-то связан с этим разговором. Ситуация напоминала дуэль Онегина и Ленского, и в "Сне" мы также обнаруживаем реминисценции из соответствующей сцены в "Онегине" (гл. G, строфа XXXII).
Недвижим он лежал... Под грудь оп был навылет ранен; Дымясь из раны кровь текла.
С свинцом в груди лежал
недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди дымясь чернела рана,
И кровь лилась хладеющей струей (2, 197).
Следует, впрочем, заметить, что "Записки" Сушковой нередко включают в себя парафразы лермонтовских стихов. "Я нашла идола, перед которым не стыдно было преклониться перед целым светом" (196), - пишет она, например, - и в этих строчках улавливаются реминисценции из лермонтовского "Договора":
Но перед идолами света Не гну колени я мои... (2, 190)
Вернемся, однако, к истории "интриги". Лермонтов встретился с Лопухиным дружески, Сушкова - холодно. Она пытается разобраться в создавшейся ситуации, но Лермонтов пресекает эти попытки. Он настойчив, он требует признания - и получает его. Признание это производит обратный эффект: Лермонтов теперь окончательно убежден, что имеет дело с кокеткой, с необыкновенной легкостью отказавшейся от своего жениха. Любопытны здесь тоже аналогии быта и литературы, - достаточно вспомнить хотя бы "Испытание" Марлинского.
Далее следует уже прямая мистификация: Лермонтов прикидывается больным, проводит вечер в обществе Лопухина и после его ухода приезжает на бал, чтобы протанцевать мазурку с Сушковой. Лопухин не знает об этом и не верит Сушковой, когда она рассказывает ему, что Лермонтов был на балу. Происходит окончательный разрыв, - но у Сушковой уже зародились подозрения. Она как будто предчувствует "бездну под ногами". В этот момент Лермонтов пишет ей известное "анонимное письмо", в котором предупреждает, что ее обманывают. Об этом письме нам известно из рассказов Сушковой, Ладыженской и Ган; его пересказывает сам Лермонтов в письме к Верещагиной и - уже в литературном варианте - в "Княгине Литовской". Объясняя Верещагиной свой поступок, Лермонтов не щадит Сушкову - в его глазах она не заслуживала ни сожаления, ни сочувствия. В любовь ее он не верил и подозревал, что она намерена женить его на себе. Эта часть письма читается как светский роман, где предписаны правила ведения любовной интриги и где очерчен тип светской кокетки. "Да знаешь ли ты, что такое светская женщина, - читаем мы в "Большом свете" В. А. Соллогуба, - существо равнодушное, полуплатье и получепчик. Оно живет только поддельным светом, украшается только поддельными цветами, говорит поддельным языком и любит поддельной любовью".1 Лермонтов, вероятно, давал Сушковой подобную же характеристику. Он мстил ей за прежнее кокетство и насмешки, "спасал" Лопухина и приобретал в свете репутацию покорителя сердец.
1 (Отеч. зап., 1840, т. 9, с. 40.)
Но это лишь одна сторона дела. Как уже отмечалось неоднократно, биографический эпизод, рассмотренный нами, оказался существенным и для Лермонтова-писателя, искавшего в это время путей к новой, психологической прозе.
"Я теперь не пишу романов, - я их делаю", - пишет Лермонтов Верещагиной. "... я на деле заготовляю материалы для многих сочинений: знаете ли, вы будете почти везде героиней", - говорит он Сушковой. В повесть "Княгиня Литовская" войдут не только биографические и конкретные бытовые детали, но также и наблюдения художника над созданной им самим ситуацией и над психологией действующих лиц.
Как мы уже видели, элемент иногда не вполне осознанной литературной "игры" присутствует в отношениях Сушковой и Лермонтова с самого начала. Он ощущается в самом ритуале вручения стихов, комментирующих его чувства. Передача посланий через третье лицо была в традиции эпистолярного романа. В такой литературной "игре" учитывался также вкус и опыт адресата. Сушковой эта "игра" знакома. Она воспитана на чтении романов. Свои светские успехи и увлечения она воспринимает сквозь романтическую призму".1 Она сентиментальна, речь ее окрашена высокопарной риторикой героинь сентиментальных романов. Она разыгрывает романтические ситуации, появляясь перед молодежью на лошади, с распущенными волосами.2 Сцена предназначалась для "публики", которая должна была ассоциировать ее с прочитанными романами, а самую всадницу - с героинями типа Дианы Верной в "Роб Рое" В. Скотта.
1 (См. рассказ о ее отношениях с Н. Г. Головиным в "Записках" (136-141), с планами побега, тайного венчания в т. д. Это популярная ситуация в современных романах и повестях. Литературно-бытовые "маски" и ситуации очень точно описал Пушкин в "Евгении Онегине". Как известно, литературная "игра" была характерна и для старшего поколения, читавшего сентиментальные романы Ричардсона и Руссо. Поколению Онегина, Ленского и Татьяны было более свойственно подражание Байрону и немецкому романтизму.)
2 (См.: Столица и усадьба, 1913, 15 дек., № 1, с. 2-4.)
Свою собственную "литературную маску" Лермонтов создает по тшту героев Байрона. Об этом писали (нередко упрощая дело) многие современники поэта. "Не признавая возможности нравиться, - писала Ростопчина, - он решил соблазнять или пугать и драпировался в байронизм, который был тогда в моде. Дон Жуан сделался его героем, мало того, его образцом: он стал бить на таинственность, на мрачное и на колкости".
Даже II, С. Тургенев, сознававший в полной мере значительность личности Лермонтова, замечал: "Не было сомнения, что он" следуя тогдашней моде, напустил на себя известного рода байроновский жанр.. .".1
1 (М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников, с. 280, 229.)
Разыгранный поэтом образ переносится им в литературное произведение.1 Печорин, Лугин, Арбенин - вот те персонажи, которые получают черты этой "маски". В них есть элементы подлинной автобиографии и автобиографии созданной, "литературной". Нам известно, что в кругу друзей "маска" Лермонтова почти вовсе исчезала; письма и воспоминания подчеркивают его веселость, жизнерадостность и обаяние.
1 (В письме В. П. Боткину от 16-21 апреля 1840 г. Белинский так описывал своп впечатления от встречи с Лермонтовым: "Печорин - ото он сам, как есть" (М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников, с. 248).)
Литературная подоснова "романа" с Сушковой включала самые разнообразные элементы "игры".
В русском обществе первой трети XIX в. было широко распространено употребление "чужого слова" как наилучшего способа выражения чувств. Так, чужие стихотворения, записываемые в альбомы, воспринимаются адресатом как выражение собственного чувства писавшего. А. А. Столыпин записывает в альбом Е. А. Анненковой (1808) строки из "Фингала" В. А. Озерова:
Но столько звуки арф в вечерний тихий час Приятны при заре, сколь твой приятен глас. Сколь кажду речь твою я нахожу прелестну, Несущу радость мне, доныне неизвестну! По я, блаженствуя в моей теперь судьбе, Не знаю, чем и как воздать могу тебе, Которой должен я толикою отрадой!
На это выражение чувств Фингала - Столыпина Моина - Анненкова отвечает первой строкой монолога Моины:
Любви лишь может быть одна любовь наградой.1
1 (Озеров В. А. Трагедии. Стихотворения. Л., 1960, с. 199.)
Она не смеет произнести дальнейшие строки, так как они являются прямым признанием в любви.1 Но в этом нет необходимости. Оба знают текст наизусть. В этом заключается условие - литературной "игры". "Чужое слово" должно быть знакомо всем участникам, иначе "игра" невозможна.
1 ("Игра" всегда должна была соблюдать определенный этикет, на нарушение которого общество смотрело осуждающе. Так, С. М. Салтыкова получает строгий выговор от тетушки за слишком страстное чтение "Кавказского пленника" Пушкина с Каховским, который за ней в это время ухаяшвал; в их романе литературная "игра" являлась как бы главным стержнем.
"Он (Каховский) говорил мне в тот день множество стихов, я помогала ему, когда он что-либо забывал; произнеся:
Непостижимой чудной силон Я вся к тебе привлечена -
я едва не сделала величайшего неблагоразумия; если бы я не вышла из рассеянности и сказала бы то, что думала в тот момент, я погибла бы, - вот что это было:
Люблю тебя, Каховский милый, Душа тобой упоена...
К счастию, я выговорила "пленник"; но, как сказала мне потом Катерина Петровна, я произнесла эти слова с такою выразительностью (чего я сама не заметила), что я не удивляюсь тому, что он тотчас ответил с сияющим видом и радостным голосом:
Надежда, ты моя богиня, Надежда, луч души моей!
Затем он начал говорить о чувствах..." (Модзалевский Б. Л. Роман декабриста Каховского, казненного 13 июля 1826 года. Л., 1926, с. 61).)
Очень характерен в этом смысле рассказ Сушковой об одном концерте, где М. Л. Яковлев пел романс на стихи Пушкина:
"Когда он запел:
Я вас любил, любовь еще, быть может, В душе моей погасла не совсем... -
Мишель шепнул мне, что эти слова выражают ясно его чувства в настоящую минуту.
Но пусть она вас больше не тревожит, Я не хочу печалить вас ничем.
- О, нет, - продолжал Лермонтов вполголоса, - пускай тревожит, это вернейшее средство не быть забыту.
Я вас любил безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томим,
- Я не понимаю робости и безмолвия, - шептал он, - а безнадежность предоставляю женщинам.
Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам бог любимой быть другим!
- Это совсем надо переменить; естественно ли желать счастия любимой женщине, да еще с другим? Нет, пусть она будет несчастлива; я так понимаю любовь, что предпочел бы ее любовь ее счастию; несчастлива через меня, это бы связало ее навек со мною! А ведь такие мелкие, сладкие натуры, как Л<опу>хин, чего доброго, и пожелали бы счастия своим предметам! А все-таки жаль, что я не написал эти стихи, только я бы их немного изменил. Впрочем, у Баратынского есть пьеса, которая мне еще больше нравится, она еще вернее обрисовывает мое прошедшее и настоящее - и он начал декламировать:
Нет; обманула вас молва, По-прежнему я занят вамп, И надо мной свои нрава Вы не утратили с годами. Другим курил я фимиам, Но вас носил в святыне сердца, Другим молился божествам, Но с беспокойством староверца!" (175-176).
Здесь Сушкова напоминает ему о его собственных стихах, посвященных ей:
Так храм оставленный - все храм, Кумир поверженный - все бог!
Это лишь один, хотя и очень яркий, случай литературного опосредования интимной беседы. Другой - сцена с чтением сентиментального романа М. Деборд-Вальмор "Ателье художника", который был новинкой в Петербурге.1 Эпизоды из жизни художников в Париже, вставные новеллы нанизаны на любовный сюжет Йорика и Ондины. При чтении романа Лермонтов и Сушкова обсуждали отдельные места, и, по свидетельству Сушковой, Лермонтов исписал поля книги своими примечаниями. После получения анонимного письма эти примечания были стерты тетушкой Сушковой, так как якобы являлись доказательством непристойного поведения племянницы. "Они стерли резинкой все его заметки в книжках, - пишет Сушкова, - но некоторые я еще помню. Там, где говорилось о любви, он подписал: "Aimer plus que Ton est aime - Malheur! Aimer moins que Ton est aime - De-gout! Choisir!!!". Я подписала внизу: "Mon Dieu, comment done vous aimer? Vous ne serez content d'aucun amour. On peut cependant aimer autant que Ton est aime".
1 (Debord-Valmor M. L'Atelier d'un peintre, vol. 1-2. Paris, 1833.)
Потом что-то говорилось о мертвой голове; он подчеркнул и написал: "Une tete de mort - la seule qui ne ment pas!".
"Les yeux remplis d'etoiles", - он опять подписал: "Comme les votres - je profiterai de cette comparaison".
В конце было: "On est si bien pres de la bonte" - он заметил: "Это нравится Лизе, и ее заметка не ваша".
По этим припискам тетка заключила, что "он меня не уважает, считает совершенно погибшей; что она давно знала, что во мне пути не будет" ... и тому подобные вещи я должна была выслушивать с утра до ночи" (209-210).
Читая этот роман, можно с точностью установить только два места, вызвавшие комментарии Лермонтова. В романе есть целая глава под названием "Мертвая голова" ("La tete de mort"), в которой рассказывается о том, как Ондина, срисовывая гипсовую голову, изображающую Смерть, как бы слышит ее голос, говорящий ей, что и она смертна. "Ты лжешь", - говорит ей девушка и изменяет свой рисунок так, чтобы он изображал голову живого человека. На это ее дядя-художник, ее учитель, отвечает: "Vous voyez bien que vous avez peur <...> et que e'est vous qui mentez a cette pauvre sincere, parce qu'elle vous dit une brusque verite. Voyez! elle n'a plus rien pour mentir a personne, non plus qu'a alle-meme: vous avez beau mettre des fleurs dessus, dessous, dedans et tout autour, ce ne sera jamais qu'une tete de mort, la seule qui ne mente plus".1
1 (Ibid., vol. 1, p. 67-68.)
Заметка о "глазах, полных звезд", относится к описанию актрисы, которую Ондина и дядя видели на сцене: "Dieu! qu'elle etait belle, avec ses grands yeux noirs pleins d'etoiles et de rayons. ..".
Несколько раньше в романе дядя рассказывает Опдине историю своей неразделенной любви. Актриса Марс напоминает ему его возлюбленную Марианну: "Elle a, comme elle, aussi recu le don d un regard qui jette des sorts, meme sur ceux qu'elle n'aimo pas; et en verite, peuton aimer tout le monde?.. Mais un seul excepte, malheur aux autres. (...) Il n'y a point de ciel pour ceux qu'on n'aime pas; et une eternite sans amour n'est qu'une misere sans fin".1
1 (Ibid., vol. 2, p. 101-102.)
Возможно, что заметка Лермонтова о любви относится или к этому месту, или к фрагменту "Первая любовь" в целом, некоторые эпизоды которого слегка напоминают отношения Лермонтова и Сушковой. Можно высказать осторояшое предположение, что внимание Сушковой и Лермонтова могла привлечь сцена бала, где дядюшка, г-н Леонар, неожиданно встречает Марианну:
"Elle riait; elle voulait du bonheur. - Je veux danser, ditelle; Leonard, faitesmoi danser; vous serez mon cavalier toute la nuit; allons vite, Leonard, un moment d'oubli, un moment de joie; j'ai bien assez pleure, j'espere; je veux danser!
Je la regardai avec etonnement; je ne la reconnus pas; elle etait grande! grande! et fluide, et belle! Oh! c'etait etrange de voir tout a coup quelque chose de si beau, de si lumineux! de me sentir tout a coup enshame sous ce bras de femme qui s'appuyait sur mon cceur et qui le prenait comme s'il eut ouvert ma poitrine!"1.
1 (Ibid., vol.1, p. 263-264.)
В этот вечер Леонар признается, что он безнадежно влюблен в Марианну и становится "l'amant, l'esclave de la plus belle et de la plus indifferente des maitresses".1
1 (Ibid., vol. 1, p. 264.)
Любопытна также сцена ревности, которую Леонар устраивает Марианне. Здесь есть некоторое сходство с тем, что говорит Лермонтов Сушковой по поводу себя и Лопухина: "Taisez-vous! - disje en l'interrompant, - vous perdez l'esprit. It faut etre bien folle do l'amour d'un homme, pour ne pas s'apercevoir qu'on en fait mourir un autre! Je vous aime bien autrement que vous n'aimez, vraiment! je vous idolatre, moi, Marianne, et depuis un an, depuis toujours, sans donle! et vous me chassez! vous m'envoyez a Rome, ou vous n'etes pas! vous faites un complot de manage contre moi, comme les enfants qui jouent avec des boules de neige, et qui у cachent des cailloux pour faire du sang, jai vu cela! et vous me croyez fou! Cela vous fait rire, un original comme moi et vous venez me faire des reproches, me trailer d'ingrat, ingrate fille! et quand je vous donne toute Fame qui m'est descendue du ciel pour vous adorer, vous m'apportez votre estime! Ah! c'est une belle gaillarde que Festime, pour servir de contrepoids a un amour comme celui que vous m'avez jete, Marianne! c'est un dictame bien calmant pour surmonter les palpitations que je renferme avec un courage de lion. Allez, cruelle! donnez votre estime a votre amant, puisqu'il a votre amour; donnez-lui tout".1
1 (Ibid., vol. 1, p. 283-284.)
Это все, что можно извлечь из романа, сходного с петербургским эпизодом отношений Лермонтова и Сушковой.1 Можно было бы провести детальное сопоставление "Ателье художника" и "Княгини Литовской", но эта задача стоит за пределами нашего исследования.
1 (В "Записках" Сушковой есть еще одни пример использования цитат из романа для объяснения собственных чувств: "Из романов Жанлис более всех я пристрастилась к "Адольфине"; и я находила сходство между ею и мной: у нее была такая же добрая мать, как у меня, а такой же отец; очень нравились мне расспросы Адольфины: зачем бог сотворил то и то? Один раз она спросила: "Зачем бог дал нам глаза?" (она родилась в подземелья) - и, спохватясь, продолжала: "3наю, чтобы плакать!". В первом письме своем к матери я вклеила эту фразу: "У меня глаза для того только, чтобы плакать о тебе!" (64).)
"Игровой" характер отношений Сушковой и Лермонтова находит параллель в "Княгине Литовской". Кульминацией "игры" явилось анонимное письмо. Оно принадлежит традиции эпистолярного романа: секретный доброжелатель из лучших побуждений хочет предостеречь жертву. Весь эпизод включен в повесть; несколько изменилась только функция письма: в романе оно - "очаровательное средство" вывести героя из затруднительного положения и отчасти - шалость; целью реального письма была месть. Местью является и сам рассказ Лермонтова об этом в романе. Если бы он был напечатан, посвященные легко бы разгадали имена главных героев.
Сушкова позже отметила "старание изо всякого слова, изо всякого движения извлечь сюжет для описания" (24). Психологически тонко разработанный сюжет "Княгиня Литовской" создавался на реальной, бытовой основе.
"Княгиня Литовская" дала материал для "Героя нашего времени". "Игра" явилась для Лермонтова важным методом осваивания и прорабатывания бытового и автобиографического материала, включаемого в литературное произведение; ей принадлежала существенная роль в формировании Лермонтова-прозаика.
После получения анонимного письма родственниками Сушковой и последовавшего семейного скандала Лермонтову были запрещены свидания с ней. Они встречались еще несколько раз па балах, причем он, продолжая свою интригу, делал вид, что ни в чем не виноват и даже не знает, в чем его подозревают.
Весной Сушкова уехала в деревню. Она так и не поняла полностью причину злой шутки, которую Лермонтов сыграл с ней. При последнем свидании он лишь признался ей, что больше ее не любит. Рассказ в "Записках" на этом и обрывается, но отношения Лермонтова и Сушковой еще не были окончены. Поздние эпизоды отчасти восстанавливаются по материалам верещагинского архива.
Весной 1836 г. Сушкова опять была в Москве. Она снова проводила время у Сашеньки, о чем свидетельствуют ее записи в альбоме Верещагиной (Верещ.II). Эти типичные альбомные записи, все на французском языке (выписки из любимого поэта Сушковой Ламартина, св. Августина, М. Д'Аргуис), отчетливо характеризуют ее грустное настроение.
О том, что произошло в Москве между Верещагиной и Сушковой, рассказывает кузина Сушковой, Е. А. Ган:
"С Александриной, родственницей бывшего жениха своего, князя Мишеля (sic!), они там встретились очень дружески. Они всегда были в переписке, так что той был известен весь печальный роман ее; тут же, при личном свидании с "с другом", Катя вновь все ей рассказала, наивно изливая ей все свое сердце... Раз, приехав рано к Александрине, Катя прошла прямо к ней в комнату, пока хозяйки дома были очень заняты в гостиной приемом важной родственницы. На столе была опрокинута открытая шкатулка с грудой вывалившихся из нее писем... В глаза ей метнулось ее имя в письме, написанном рукой слишком знакомой... Она взяла и прочла:
"Будьте спокойны, милая кузина, - писал Лермонтов своей родственнице Александрине, - Мишель никогда не женится на М-llе Сушковой. Я играл двойную игру, которая удалась мне превосходно. Кокетство М-llе Сушковой хорошо наказано! Она так, очернена в глазах Мишеля, что он к ней чувствует одно презрение; мне же удалось лестью вскружить ей голову и даже внушить ей страсть, которая мне неприятна... Не так-то легко будет мне от нее отделаться! Зато цель наша достигнута, а что касается до М-llе Сушковой, - будь с ней что будет! ..".
Тогда только Катя поняла, что бедные родственники князя, Александрина и мать ее, живя с ним вместе и на его счет, отнюдь не желали, чтоб он женился, да еще на девушке без состояния" (303-304; подлинник письма по-французски).
Е. А. Ган ошибается в именах и некоторых фактах, - но переданная ею ситуация, конечно, восходит к рассказам Сушковой. То, что Верещагина якобы была влюблена в "князя Мишеля" (Лопухина), было также догадкой Сушковой, которая старалась объяснить измену подруги. Об этом она рассказывала позже и своей сестре, Е. А. Ладыженской: "Как только узналось о его (Лопухина. - А. Г.) коротком знакомстве в нашем доме, то одна москвитянка, страстно влюбленная в г. Л(опухи)на и вдобавок приятельница Екатерины Александровны, поручила умненькому молодому гусару воспрепятствовать предполагаемому союзу. В эпоху этого рассказа, слышанного собственными моими ушами, - продолжает Ладыженская, - в чувствах Екатерины Александровны преобладали гнев на вероломство приятельницы, сожаление об утрате хорошего жениха, и отнюдь не было воздвигнуто кумирни Михаилу Юрьевичу. Он обожествлен гораздо, гораздо позднее" (337).
Эта версия составила потом своего рода семейное предание. В 1880-е годы Н. Фадеева писала П. А. Висковатому: "В ней (тетради Сушковой. - А. Г.) также говорится о Mr. Lop<oukhin>, т. е, о Лопухине, который, по семейному сказанию, был влюблен в Хвостову, тогда еще Сушкову, и хотел на ней жениться, что представляло для нее выгодную партию. Но ее приятельница, которую она называет "Alexandrine", кузина Лермонтова, также имела виды на Лопухина, и Лермонтов взялся отбить его от Сушковой, заставив ее влюбиться в себя, - женился на Alexandrine,1 а Сушкова осталась одураченной и впоследствии вышла за Хвостова. Так я слыхала от лиц, в кругу которых тогда жила Хвостова и которым хорошо были известны обстоятельства ее тогдашней жизни"2.
1 (На обвинение Верещагиной в материальной заинтересованности (см. выше, в письмах Е. А. Ган) отвечала с негодованием Е. М. Бакунина, родственница и близкая подруга Сашеньки. О том, что Верещагина была богатой невестой, говорит и сама Сушкова (108). Но Верещагины действительно жили у Лопухиных, которые были их близкими родственниками. Мать А. А. Лопухина была сестрой отца Верещагина. При таком близком родстве о браке Верещагиной речи быть не могло.)
2 (ИРЛИ, ф. 524, он. 3, ед. хр. 45.)
Но ни страстью к Лопухину, ни выгодой нельзя было объяснить роль Верещагиной. Самую правдоподобную догадку на этот счет высказала Ладыженская: "Теперь, - писала она позже в своих "Замечаниях" на "Записки" сестры, - я или не дала бы вероятия подобным объяснениям, или истолковала бы возложенное поручение не страстью, а заботливостью и той особы и других родственников Л<опухи>на, не имевших права удерживать независимого, но чрезвычайно молодого человека от слишком ранней женитьбы, если он о ней помышлял, и потому попросивших близкого им Лермонтова изучить, как сказали бы теперь, девушку, совершенно незнакомую одним, мало знакомую другим из них. С другой стороны, не чуждо мне и то предположение, что Лермонтов, по природе более склонный наносить вред, чем вносить с собою благополучие, сам от себя затеял разлучить, а не соединить. Опять повторяю: если был помысел о соединении" (338).
Эти свидетельства, хотя и противоречивые, совпадают в одном: все они называют имя Верещагиной, которая вместе с Лермонтовым разлучила Сушкову и Лопухина. Особенно интересна цитата якобы из письма Лермонтова. Его тон и в особенности фраза: ". . .мне же удалось лестью вскружить ей голову и даже внушить ей страсть, которая мне неприятна..." - перекликаются с характеристикой Сушковой в его письме к М. А. Лопухиной. Вряд ли Сушкова могла сама придумать такое письмо и выставлять самое себя в таком свете. Не было у нее также и оснований сразу заподозрить Верещагину в измене. Ведь Верещагина как будто, напротив, старалась быть поверенной в ее отношениях с Лопухиным. Однако поведение Верещагиной, решительность, с которой она стремилась расстроить предполагаемый брак Лопухина, вполне соответствует тому представлению о ней, какое создается ко другим источникам.1
1 (Эта черта характера Верещагиной - привычка действовать решительно и настоять на своем - подчеркивается в записках Альбертп; ср., например, ее рассказ о том, как Сашенька принудила мать ехать поездом и Нюрнберг (Воспоминания Элизабет фон Альбертп, с 8).)
Презрительное, почти издевательское отношение Верещагиной и ее круга, в том числе и Лермонтова, к Сушковой в это время ярко охарактеризовано записями в альбоме Верещ.II. Здесь, как и в первом альбоме, записи являются комментариями к записям Сушковой, подчеркивая еще раз важность альбомного контекста.
Под записью отрывка в прозе из Ламартина рукою Лермонтова (?) написано: "Катюша, не грусти". После выписок Сушковой из св. Августина, сделанных на альбомной странице голубого цвета, Лермонтов записал свое насмешливое "Послание":
Катерина, Катерина, Удалая голова! Из святого Августина Ты заимствуешь слова. Но снятые изреченья Помрачаются грехом. Изменилось их значенье На листочке голубом...
В собрании сочинений Лермонтова это стихотворение датируется 1835 г. Предполагается, что адресат послания - Сушкова. Теперь, рассмотрев эти стихи в контексте окружающих записей, мы можем внести дополнения и коррективы.
Все записи Сушковой в этом альбоме относятся к весне 1838 г.; одна из них имеет дату: "Москва, март, 1836 г.". Лермонтов приехал в Москву 23 марта 1837 г. и уехал 10 апреля.1 Через Москву шел тракт на Кавказ, куда Лермонтов был сослан за распространение своего стихотворения "Смерть поэта" (до этого он был в Москве в декабре 1835 г. проездом в Тарханы).2 Таким образом, "Послание" можно датировать мартом - апрелем 1837 г. Это подтверждают и две других записи Лермонтова в том же альбоме. На последней странице альбома Лермонтов записал "стихотворение" слуги Лопухиных, Ахилла, "На смерть Пушкина", несомненно относящееся к тому же времени.3 Третья запись - это начало баллады "Югельский барон", которую Лермонтов сочинил вместе с В. П. Анненковой. Баллада, пародия на известную балладу Жуковского, написана для Верещагиной, которая была помолвлена за барона Карла фон Хюгеля. В конце баллады ее рукой написано: "Сочинено Мишелем Лермонтовым и Варварой Анненковой в то время, когда я читала письмо от моего жениха". Невестой она была весной 1837 г. Брак состоялся в ноябре 1837 г. В предыдущий приезд Лермонтова Верещагина с бароном знакома не была.
1 (Баранов В. Лермонтов в Москве. - В кн.: Литературное наследство, т. 45-46. М., 1948, с. 727.)
2 (Мануилов В. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова, с. 65.)
3 (Андроников И. Л. Лермонтов. Исследования и находки. II., 1964, с. 232 и след.)
Послание "Катерина, Катерина" как будто знаменует полный разрыв. Но не будем спешить с заключениями. Именно в это время Лермонтов пишет стихи, завершающие "сушковский цикл":
Расстались мы, но твой портрет Я на груди моей храню: Как бледный призрак лучших лет, Он душу радует мою. И новым преданный страстям Я разлюбить его не мог: Так храм оставленный - все храм, Кумир поверженный - все бог!
Стихи возникают на основе двух стихотворений, посвященных Сушковой, - "Силуэт" и "Я не люблю тебя". Через все три проходит байроновская реминисценция. И силуэт, и портрет, который поэт носит на груди, прямо связаны с рассказом Байрона о портрете-миниатюре Мэри Чаворт, который был с ним якобы всю жизнь. Во всех трех стихотворениях поэт подчеркивает двойственное отношение к любимой женщине. Образ Мэри Чаворт у Байрона вызывал одновременно чувства любви и глубокой нежности, - и злобы, презрения и мести. Не то же ли происходило и с Лермонтовым? Это всего лишь предположение, но оно, кажется, частично подтверждается его последующим противоречивым и даже парадоксальным поведением.
Лермонтов был на свадьбе Сушковой в ноябре 1838 г. Жених Сушковой - давний ее поклонник, дипломат А. В. Хвостов. Мать Верещагиной Елизавета Аркадьевна в письме к дочери описала свадьбу (на которой тоже присутствовала) якобы по просьбе Лермонтова: "Вчера была свадьба у нас в приходе. Елиз<авета> Алек<сеевна> Арсеньева у жениха - посаженой матерью, и Миша Лерм<онтов> на свадьбе. Женихова мать - Арсеньева, племянница Елиз<аветы> Алек<сеевны>. Жених назначен charge d'affaires в Америку, в Соединенные Штаты, 40 или 50 тысяч жалованья, что-то в дорогу, и, говорят, что умней и ученей его нет человека, камер-юнкер, но очень дурен собой, и скоро едут в Америку. И Миша велел тебе все сие описать, и что у невесты был посаженый отец Сенковский, и много было смешнова, в странностей было много. Нельзя все пис<ать>".1
1 (Авдроников И. Л. Рукописи из Фельдафинга.- Зап. Отд. рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина, вып. 26, с. 28).
Это письмо подтверждает правдивость устных рассказов, записанных М. И. Семевским: "Нам рассказывали, будто Лермонтов усиленно просился быть шафером у Е<катерины> Александровны) и будто бы, не получив на то согласия, все-таки присутствовал при обряде венчания и будто бы плакал. <...> С другой стороны, рассказывают, что из церкви Лермонтов поспешил прежде молодых в дом жениха и здесь, в суете приема молодых, сделал оригинальную шалость: он взял солонку и рассыпал соль по полу. "Пусть молодые новобрачные ссорятся и враждуют всю жизнь", - сказал Лермонтов тем, которые обратили внимание на эту умышленную неловкость" (222). Сама Сушкова рассказала Семевскому, что, когда она "возвратилась от венца, Лермонтов (в качестве шафера) будто бы подошел к ней с поздравительным бокалом и сказал: "Je me recommande, madame, a votre bonte"" (226). Рассказ Ростопчиной о проделках Лермонтова на свадьбе, дошедший до нас в искаженной передаче, все же заключает в себе некоторые факты. Ростопчина, смеясь, рассказывала, "как приглашенный и не принявший приглашение быть шафером Екатерины) Ал<ександровны> на венчании ее в 1838 году с г. Хвостовым скорбный поэт, стоя за ее спиной, от тоски, волнения, раздирательных чувств то и дело готов был падать в обморок и то опирался на руку одного, то склонялся головой на перси другого сострадательного смертного" (339).
Были ли шалости Лермонтова продолжением мести? И были ли это шалости? К сожалению, ответа на эти вопросы дать нельзя. Возможно, находка потерянных бумаг Сушковой, включая ее дневники, даст возможность осветить точнее этот странный эпизод.
Последний факт общения Лермонтова с Сушковой перед самой смертью поэта известен нам также из устных рассказов, записанных Семевским: "В начале 1840 года дуэль Лермонтова с Барантом была причиною вторичной ссылки его на Кавказ; сюда же, в Тифлис, явилась и Екатерина Александровна с мужем, имевшим пост директора дипломатической канцелярии при главнокомандующем Кавказского края. Рассказывают, что именно в вто время Лермонтов прислал Е. А. Хвостовой свой живописный, очень хороший портрет. Уверяют, что она, не приняв этого портрета, отправила его назад. Лермонтов, будто бы, в величайшей досаде, изрезал портрет на куски и бросил в печку: "Если не ей - будто бы сказал при этом поэт, - то пусть никому не достается этот портрет"" (222-223).
Здесь невольно приходят на память слова Лермонтова, сказанные Сушковой: "...естественно ли желать счастия любимой женщине, да еще с другим? Нет, пусть она будет несчастлива; я так понимаю любовь, что предпочел бы ее любовь ее счастию; несчастлива через меня, это бы связало ее навек со мною!" (175- 176). И стихи самого Лермонтова - в "Журналисте, читателе и писателе":
Давно забытые черты В сияньи прежней красоты Рисует память своевольно: В очах любовь, в устах обман - И веришь снова им невольно, И как-то весело и больно Тревожить язвы старых ран... Тогда пишу...
Материалы архива Верещагиных подтверждают аутентичность такого значительного документа, как "Записки" Сушковой, до сих пор не оцененного еще по достоинству. Но окончательное освещение темы "Лермонтов и Сушкова" станет возможным только тогда, когда будут критически и беспристрастно исследованы темы "Лермонтов и Н. Ф. Иванова" и "Лермонтов и В. А. Лопухина", связанные не только с целыми лирическими циклами, но и с драматургией и прозой Лермонтова.
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://m-y-lermontov.ru/ "M-Y-Lermontov.ru: Михаил Юрьевич Лермонтов"