
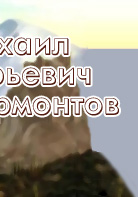
Библиотека
Энциклопедия
Ссылки
О проекте

Последний раз в Петербурге

Последний раз в Петербурге
1
Лермонтов воевал на Кавказе, когда 25 октября 1840 года в Петербурге в типографии Ильи Глазунова вышел в свет сборник "Стихотворения М. Лермонтова". На цензурном экземпляре, хранящемся в научной библиотеке имени М. Горького при Ленинградском государственном университете, рукой А. В. Никитенко сделана пометаз "Выдать билет 25 окт. Цензор Никитенко. № 1608-й Октября 8-го 1840 года". Издание вышло в количестве 1000 экземпляров. Сборник готовился к печати под наблюдением А. А. Краевского. Книга стихотворений свидетельствует об исключительной требовательности Лермонтова к себе. К тому времени им было написано около четырехсот стихотворений и тридцати поэм. Правда, стихотворение "Смерть поэта", известное по множеству списков всей грамотной России, "Маскарад" и "Демон" не были напечатаны по цензурным условиям, но из большого числа других произведений Лермонтов отобрал всего только двадцать шесть стихотворений и две поэмы: "Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова" и "Мцыри". Весьма показательно, что сборник стихотворений Лермонтова открывался "Песней про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова",
а затем шло "Бородино". Лермонтов тем самым как бы подчеркивал, что придает этим двум своим народным произведениям особое значение. Одно из первых мест занимала "Дума". Центральное положение в сборнике занимали и стихотворения: "Дары Терека", "Памяти А. И. Одоевского", "Первое января", "Казачья колыбельная песня", "Журналист, читатель и писатель", "Воздушный корабль", "И скучно и грустно". Сборник был составлен таким образом, чтобы выделить в первую очередь все наиболее значительные произведения народно- эпического характера, а также стихотворения, в которых Лермонтов давал суровую оценку светскому обществу и выражал неудовлетворенность современной жизнью. При таком построении книги даже глубоко личные, субъективные стихотворения получали общественную значимость и приобретали особое звучание. Сборник стихотворений опального поэта заключался элегией "Тучи", которая напоминала читателю о печальной участи политического изгнанника.
Сборник "Стихотворения М. Лермонтова" был замечен критикой и вызвал более десяти разноречивых критических заметок и статей в журналах того времени, но только Белинский со всей определенностью заявил, что никто, кроме Пушкина, "еще не начинал у нас такими стихами своего поэтического поприща". В первой же рецензии Белинский обратил внимание на ожесточенные споры вокруг имени молодого поэта и отметил, что "неистовство врагов свидетельствует об истинном достоинстве и несомненном даровании поэта, ибо только посредственность не вызывает возражений".
Вслед за небольшой предварительной рецензией Белинский поместил в "Отечественных записках" большую статью о стихотворениях Лермонтова.
Сложный и во многом противоречивый творческий путь Лермонтова вел ко все большему преобладанию реалистических элементов стиля над элементами романтическими. Отказ от всякой аффектации, от романтической приподнятости, от оглушающих гипербол и метафор открывал путь к предельно простому, правдивому поэтическому слову, выражающему глубоко выстраданную мысль.
2
В начале 1841 года Лермонтову удалось выхлопотать разрешение съездить в Петербург для свидания с бабушкой. 14 января он получил в штабе войск Кавказской линии и Черномории отпускной билет № 384 на два месяца и, вероятно, в тот же день выехал из Ставрополя через Новочеркасск, Воронеж и Москву в Петербург.
30 января Лермонтов был в Москве, а в четверг, 6 февраля, прибыл в Петербург. Была масленица, каждый вечер устраивались балы. На другой же день он отправился на бал к А. К. Воронцовой-Дашковой в ее дом на Дворцовой наб. (ныне № 30; перестроен). Хозяева дома относились к Лермонтову с большой приязнью, особенно хозяйка.
Александра Кирилловна Воронцова-Дашкова, урожденная Нарышкина, была одной из самых заметных молодых женщин светского Петербурга тридцатых и начала сороковых годов. К ее портрету, литографированному Г. Греведоном в 1840 году в Париже, Лермонтов написал стихотворение:
Как мальчик кудрявый, резва, Нарядна, как бабочка летом; Значенья пустого слова В устах ее полны приветом. Ей нравиться долго нельзя: Как цепь, ей несносна привычка, Она ускользнет, как змея, Порхнет и умчится, как птичка. Таит молодое чело По воле - и радость и горе. В глазах - как на небе светло, В душе ее темно, как в море! То истиной дышит в ней всё, То всё в ней притворно и ложно! Понять невозможно ее, Зато не любить невозможно.
Б. А. Соллогуб писал о ней в своих воспоминаниях: "Много случалось встречать мне на моем веку женщин гораздо более красивых, может быть, даже более умных, хотя графиня Воронцова-Дашкова отличалась необыкновенным остроумием, но никогда не встречал я ни в одной из них такого соединения самого тонкого вкуса, изящества, грации с такой неподдельной веселостью, живостью, почти мальчишеской проказливостью. Живым ключом била в ней жизнь и оживляла, скрашивала все ее окружающее".
Появление Лермонтова на балу у Воронцовых-Дашковых было, по понятиям придворного и светского этикета, дерзким и даже вызывающим. Его армейский мундир с короткими фалдами сильно выделял его из толпы гвардейских офицеров. В. А. Соллогуб рассказывал П. А. Висковатому, что присутствовавший на балу великий князь Михаил Павлович был крайне удивлен и недоволен появлением опального поэта и грозно преследовал его своим взглядом. Но Лермонтов делал вид, что ничего не замечает, и кружился в вальсе с прекрасной молодой хозяйкой дома. "Наконец графине указали на недовольный вид высокого гостя, и она увела Лермонтова во внутренние покои, а оттуда задним ходом его препроводила из дому. В этот вечер поэт не подвергся замечанию. Хозяйка энергично заступилась за него перед великим князем, принимала всю ответственность на себя, говорила, что она зазвала поэта, что тот не знал ничего о бале и, наконец, апеллировала к правам хозяйки, стоящей на страже неприкосновенности гостей своих".

Памятник М. Ю. Лермонтову. Скульптор Б. М. Микешин. 1916 г.
Считалось в высшей степени неприличным, что опальный офицер, отбывающий наказание в ссылке, посмел явиться на бал, на котором присутствовали члены царской семьи. С большим трудом А. К. Воронцовой-Дашковой и некоторым друзьям Лермонтова удалось смягчить гнев дежурного генерала Главного штаба П. А. Клейнмихеля и уладить неожиданное осложнение, грозившее немедленной высылкой из Петербурга. А уладить эту неприятность было тем более необходимо, что преждевременная оттепель задержала приезд Е. А. Арсеньевой из Тархан.
Через несколько дней Лермонтов писал одному из своих родственников, Александру Ивановичу Бибикову, в Ставрополь:
"Милый Биби.
Насилу собрался писать к тебе; начну с того, что объясню тайну моего отпуска: бабушка моя просила о прощении моем, а мне дали отпуск; но я скоро еду опять к вам, и здесь остаться у меня нет никакой надежды, ибо я сделал вот такие беды: приехав сюда в Петербург на половине масленицы, я на другой же день отправился на бал к г[рафине] Воронцовой, и это нашли неприличным и дерзким. Что делать? Кабы знал, где упасть, соломки бы подостлал; обществом зато я был принят очень хорошо, и у меня началась новая драма, которой завязка очень замечательная, зато развязки, вероятно, не будет, ибо 9-го марта отсюда уезжаю заслуживать себе на Кавказе отставку; из Валерикского представления меня здесь вычеркнули, так что даже я не буду иметь утешения носить красной ленточки, когда надену штатский сюртук".
Загадочные слова Лермонтова о завязке новой драмы, видимо, относятся к его сближению с поэтессой графиней Евдокией Петровной Ростопчиной. Лермонтов познакомился с ней еще в юности, в Москве, видимо, в начале 1830-х годов. Тогда он посвятил Ростопчиной новогодний мадригал ("Додо"), в котором упомянул о ее первом печатном стихотворении "Талисман", опубликованном в 1831 году в альманахе "Северные цветы" под анаграммой (Лермонтову было известно, кто автор стихотворения). Однако подружились и сблизились Лермонтов и Ростопчина значительно позднее, почти через десять лет. Этому способствовали прежде всего поэтическая настроенность обоих, их любовь к поэзии, а также и некоторая общность судеб. И Лермонтов, и Ростопчина рано осиротели и росли без материнской ласки. Оба испытали в жизни разочарования и невзгоды. Евдокия Петровна, еще в юности изучив французский, немецкий, а затем английский и итальянский языки, хорошо знала иностранную литературу. Это оценил Лермонтов- поклонник Шиллера и Байрона, Шекспира и Петрарки.
В свой последний приезд в Петербург в 1841 году Лермонтов постоянно встречался с Ростопчиной у Карамзиных и других общих знакомых. Записи в дневнике Жуковского отмечают, в частности, что 27 февраля и 9 марта Лермонтов и Ростопчина были у Карамзиных. 13 марта Жуковский записывает в дневнике, видимо, слова, сказанные Ростопчиной: "Лермонтов: влюблен ли он в меня? Нет!" 17 марта Жуковский видится с Лермонтовым и Ростопчиной у Смирновой, а 19 марта он обедает у Евдокии Петровны вместе с Лермонтовым, С. Н. Карамзиной и другими.
В конце марта Ростопчина пишет стихотворение "На дорогу! Михаилу Юрьевичу Лермонтову":
Есть длинный, скучный, трудный путь... К горам ведет он, в край далекий: Там сердцу к скорби одинокой Нет где присесть, где отдохнуть! Там к жизни дикой, к жизни странной Поэт наш должен привыкать, И песнь и думу забывать Под шум войны, в тревоге бранной! Там блеск штыков и звук мечей Ему заменят вдохновенье, Любви и света обольщенья, И мирный круг его друзей.
А Лермонтов перед последним отъездом из Петербурга на Кавказ дарит Е. П. Ростопчиной альбом, в который записывает стихотворение, ей посвященное:
Я верю: под одной звездою Мы с вами были рождены; Мы шли дорогою одною, Нас обманули те же сны. ...................... Предвидя вечную разлуку, Боюсь я сердцу волю дать? Боюсь предательскому звуку Мечту напрасную вверять... Так две волны несутся дружно Случайной, вольною четой В пустыне моря голубой: Их гонит вместе ветер южный; Но их разрознит где-нибудь Утеса каменная грудь...
13 апреля 1841 года Е. П. Ростопчина ужинала вместе с Андреем Николаевичем Карамзиным и Лермонтовым "втроем за маленьким столом". Впоследствии, в своем письме к Александру Дюма-отцу она вспоминала: "Во время всего ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его, казавшимися пустыми, предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце".
Вскоре, в конце этого трагического 1841 года, Е. П. Ростопчина в стихотворении "Пустой альбом" вспомнила свои встречи с Лермонтовым, вечера у Карамзиных и прощальный ужин. Ей удалось воссоздать дружескую атмосферу карамзинского кружка и живой облик поэта:
...Но лишь для нас, лишь в тесном круге нашем Самим собой, веселым, остроумным, Мечтательным и искренним он был. Лишь нам одним он речью, чувства полной, Передавал всю бешеную повесть Младых годов, ряд пестрых приключений Бывалых дней, и зреющие думы Текущия поры... Но лишь меж нас, На ужинах заветных, при заре (В приюте том, где лишь немногим рад Разборчиво-приветливый хозяин), Он отдыхал в беседе непритворной, Он находил свободу и простор, И кров как будто свой, и быт семейный... О! живо помню я тот грустный вечер, Когда его мы вместе провожали, Когда ему желали дружно мы Счастливый путь, счастливейший возврат. Как он тогда предчувствием невольным Нас испугал! Как нехотя, как скорбно Прощался он!.. Как верно сердце в нем Недоброе, тоскуя, предвещало!
Уже из Пятигорска, незадолго до своей трагической гибели, Лермонтов просил бабушку прислать ему книгу Е. П. Ростопчиной. На этой книге стихотворений автором была сделана дарственная надпись: "Михаилу Юрьевичу Лермонтову, в знак удивления к его таланту и дружбы искренней к нему самому, Петербург, 20-е апреля 1841 г.". Поэту не суждено было получить этот подарок (ныне книга хранится в музее ИРЛИ).
Впоследствии, в 1858 году, незадолго до смерти, Е. П. Ростопчина писала Александру Дюма-отцу о последнем пребывании Лермонтова в Петербурге:
"Принадлежа к одному и тому же кругу, мы постоянно встречались и утром и вечером; что нас окончательно сблизило, это мой рассказ об известных мне его юношеских проказах; мы вместе вдоволь над ними посмеялись, и таким образом вдруг сошлись как будто были знакомы с самого того времени. Три месяца, проведенные тогда Лермонтовым в столице, были, как я полагаю, самые счастливые и самые блестящие в его жизни. Отлично принятый в свете, любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил к нам читать их вечером. Веселое расположение духа проснулось в нем опять в этой дружеской обстановке, он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, и мы проводили целые часы в веселом смехе, благодаря его неисчерпаемой веселости.
Однажды он объявил, что прочитает нам новый роман под заглавием "Штосс", причем он рассчитал, что ему понадобится по крайней мере четыре часа для его прочтения. Он потребовал, чтобы собрались вечером рано и чтобы двери были заперты для посторонних. Все его желания были исполнены, и избранники сошлись числом около тридцати; наконец Лермонтов входит с огромной тетрадью под мышкой, принесли лампу, двери заперли, и затем начинается чтение; спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне: написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради была белая бумага. Роман на этом и остановился и никогда не был окончен".
Речь идет об отрывке "У графа В... был музыкальный вечер" - начале повести о Лугине. Эта повесть, по-видимому, была задумана как пародия на мистические, романтические повести, типа повестей немецкого романтика Гофмана. Кое-что в этом наброске перекликается с "Портретом" Гоголя и напоминает манеру его петербургских повестей. Таковы портрет Лугина, пейзаж ноябрьского Петербурга, описание петербургской меблированной квартиры, наконец вся таинственная история с портретом неизвестного. Однако Лермонтов не только следует за Гоголем, но и преодолевает романтические традиции его "Невского проспекта" и "Портрета". Отрывок Лермонтова, известный под названием "Штосс", свидетельствует о развитии реалистических тенденций в его творчестве.
За пять-шесть лет до того, как Некрасов вместе с Белинским предприняли издание "Физиологии Петербурга" и "Петербургского сборника", утвердивших принципы так называемой натуральной школы, и одновременно с первыми петербургскими очерками и повестями молодого Н. А. Некрасова, И. И. Панаева и Д. В. Григоровича появились петербургские повести Гоголя. Вслед за ними Лермонтов обратился к описанию пейзажей столицы и повседневного быта ее обитателей. Таково, например, начало второй главки неоконченной петербургской повести "Штосс":
"Сырое ноябрьское утро лежало над Петербургом. Мокрый снег падал хлопьями, дома казались грязны и темны, лица прохожих были зелены; извозчики на биржах дремали под рыжими полостями своих саней; мокрая длинная шерсть их бедных кляч завивалась барашком; туман придавал отдаленным предметам какой-то серо-лиловый цвет. По тротуарам лишь изредка хлопали калоши чиновника, - да иногда раздавался шум и хохот в подземной полпивной лавочке, когда оттуда выталкивали пьяного молодца в зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражке. Разумеется, эти картины встретили бы вы только в глухих частях города, как например... у Кокушкина моста".

Бюст М. Ю. Лермонтова. Скульптор В. П. Крейтан. 1896 г.
Таким образом, интерес к бытописанию, к "физиологии Петербурга", впервые наметившийся у Лермонтова в романе "Княгиня Литовская", не только не ослабевал, но и получал дальнейшее развитие.
Приобщившись снова к литературной жизни Петербурга, Лермонтов начал хлопотать об отставке Он хотел всецело посвятить себя литературе, задумывал издавать свой журнал, так как "Отечественные записки" все меньше удовлетворяли его. "Мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французским",- говорил Лермонтов А. А. Краевскому.
Часто поэт встречался с Жуковским. Иногда это бывало у Карамзиных, но посещал Лермонтов и самого Жуковского, о чем свидетельствуют записи последнего в его дневнике. Так, например, 4 (16) апреля 1841 года Лермонтов, написавший "прекрасные стихи на Наполеона" - "Последнее новоселье", был у Жуковского. 12(24) апреля 1841 года снова краткая запись о визите Лермонтова. А вечером в тот же день Жуковский присутствовал на проводах Лермонтова у Карамзиных. Другие записи в дневнике Жуковского свидетельствуют о том, что маститый поэт пытался использовать свои придворные связи для того, чтобы облегчить судьбу Лермонтова. Так, например, 24 марта (5 апреля) 1841 года Жуковский передал императрице письмо Е. А. Арсеньевой о внуке. 11-13 апреля Жуковский написал письмо к великому князю Александру Николаевичу, наследнику престола, в котором просил его по случаю предстоящего 16 апреля бракосочетания с принцессой Марией Гессен-Дармштадтской оказать "милость" - смягчить участь декабристов, Герцена и Лермонтова. Письмо это, видимо, не было передано адресату, но хлопоты Жуковский не прекратил. 20 апреля (2 мая) того же года на завтраке у императрицы он говорил ей о Лермонтове.
Поэт находился еще в Петербурге, когда в апрельской книжке "Отечественных записок" появилось его стихотворение "Родина". Белинский прочитал это стихотворение до выхода в свет и высоко оценил его. "Лермонтов еще в Питере,- писал он 13 марта 1841 года В. П. Боткину.- Если будет напечатана его "Родина"- то, аллах-керим,- что за вещь - пушкинская, т. е. одна из лучших пушкинских..."
Стихотворение Лермонтова "Родина" высоко оценил Н. А. Добролюбов. В статье "О степени участия народности в развитии русской литературы" Добролюбов писал об этом стихотворении: "К несчастью, обстоятельства жизни Лермонтова поставили его далеко от народа, а слишком ранняя смерть помешала ему даже поражать пороки современного общества с тою широтою взгляда, какой до него не обнаруживал ни один из русских поэтов..."
В стихотворении "Родина" Лермонтов не только ответил славянофилу Хомякову, но и отчетливо противопоставил официальной России Николая I и Бенкендорфа, России крепостников и реакционеров, угнетателей народа, Россию народную, в тех условиях в основном крестьянскую. И как радовали Лермонтова редкие в ту пору признаки благополучия в крестьянском быту. Не многие современники поэта из дворянского круга ценили "с резными ставнями окно" и "пляску с топаньем и свистом"; народная жизнь, народная песня, народное творчество - все это было близко и дорого русскому поэту.
Во время последнего пребывания в Петербурге в начале 1841 года Лермонтов написал стихотворения: "Последнее новоселье", "Оправдание", "Любовь мертвеца", "Из-под таинственной холодной полумаски...", "Договор", "Нет, не тебя так пылко я люблю", "Я верю: под одной звездою..." и ряд превосходных альбомных посвящений; кроме того, он начал поэму в гекзаметрах из жизни Древнего Рима в эпоху гонения на христиан, но успел нарисовать только трогательный образ юной римлянки Виргинии, тайно принявшей христианство.
В Петербурге Лермонтов еще раз пересмотрел последние редакции "Демона". Замысел, над которым поэт работал почти всю свою творческую жизнь, был дорог ему, но и зрелые, кавказские редакции не удовлетворяли его. В 1840-1841 годах Лермонтова занимала работа над поэмой, впоследствии условно озаглавленной редакторами "Сказка для детей". Эта поэма непосредственно примыкает к "Демону", являясь последним, уже петербургским, вариантом замысла о Демоне. Поэма осталась незаконченной. Видимо, Лермонтов думал создать новую поэму о Демоне - на материале современной ему петербургской действительности. Эта повесть в стихах по своему реалистическому и ироническому стилю противостоит романтическим поэмам, и в том числе "Демону".
В "Сказке для детей" Лермонтов создал удивительное по своей поэтичности и точности описание петербургской белой ночи, в известной мере перекликающееся с Вступлением к "Медному всаднику" Пушкина:
Кидала ночь свой странный полусвет, Румяный запад с новою денницей На севере сливались, как привет Свидания с молением разлуки; Над городом таинственные звуки, Как грешных снов нескромные слова, Неясно раздавались-и Нева, Меж кораблей сверкая на просторе, Журча, с волной их уносила в море. II Задумчиво столбы дворцов немых По берегам теснилися, как тени, И в пене вод гранитных крылец их Купалися широкие ступени; Минувших лет событий роковых Волна следы смывала роковые; И улыбались звезды голубые, Глядя с высот на гордый прах земли, ................................. Как будто им земля небес дороже...
Возможно, что в стихах о роковых событиях минувших лет речь идет и о восстании 14 декабря 1825 года, что этот намек в дальнейшем должен был получить тематическое развитие. Несмотря на сюжетную незавершенность "Сказки для детей", Белинский в обзоре русской литературы за 1842 год назвал ее самым зрелым и лучшим из творений так рано погибшего поэта.
В статью, посвященную второму изданию "Героя нашего времени", Белинский включил весьма ценное свидетельство о последнем пребывании Лермонтова в Петербурге и о его новых творческих замыслах: "...пылкая молодость, жадная впечатлений бытия, самый род жизни, - отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собою связь и некоторое единство, по примеру куперовской тетралогии, начинающейся "Последним из могикан", продолжающейся "Путеводителем в пустыне" и "Пионерами" и оканчивающейся "Степями"".
Весьма возможно, что первый роман из века Екатерины II был связан с восстанием Пугачева и, таким образом, восходил к замыслу "Вадима". Второй роман, по словам самого Лермонтова, - "из времен смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем и развязкой в Вене". Третий роман - "из Кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, Персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране".
Материал для этих романов Лермонтов мог почерпнуть из семейной хроники Столыпиных, Хастатовых, Шан-Гиреев. Многие из его старших современников и сослуживцев участвовали в походах 1812-1814 годов. О Кавказе и Закавказье при Ермолове, о Грибоедове Лермонтов слышал от А. И. Одоевского, от П. Н. Ахвердовой, наконец, как мы теперь можем предположить, - и от самого А. П. Ермолова, с которым он должен был встретиться по пути с Кавказа в Петербург в начале 1841 года, чтобы вручить письмо от генерала Граббе. О том, что Ермолов симпатизировал Лермонтову и отзывался о нем с горячим участием, мы знаем из ряда свидетельств современников.
Любопытна заметка в отделе "Библиографические известия" в четвертом номере XV тома "Отечественных записок", по всей вероятности написанная Краевским: ""Герой нашего времени" соч. М. Ю. Лермонтова, принятый с таким энтузиазмом публикою, теперь уже не существует в книжных лавках: первое издание его все раскуплено; приготовляется второе издание, которое скоро должно показаться в свет; первая часть уже отпечатана. Кстати о самом Лермонтове: он теперь в Петербурге и привез с Кавказа несколько новых прелестных стихотворений, которые будут напечатаны в "Отечественных записках". Тревоги военной жизни не позволили ему спокойно и вполне предаваться искусству, которое назвало его одним из главнейших жрецов своих; но замышлено им много, и все замышленное превосходно. Русской литературе готовятся от него драгоценные подарки".

Лермонтовский зал Литературного музея ИРЛИ
Краевский хлопотал о втором издании "Героя нашего времени", запасался для "Отечественных записок" новыми стихами Лермонтова, заказал крепостному талантливому художнику К. А. Горбунову написать портрет поэта. Об этом Краевский 11 марта 1841 года сообщал М. Н. Каткову за границу: "Здесь теперь Лермонтов в отпуску и через две недели опять едет на Кавказ. Я заказал списать с него портрет Горбунову: вышел похож. Он поздоровел, целый год провел в драках и потому писал мало, но замыслил очень много".
Наступило 9 марта - день, когда оканчивался срок отпуска Лермонтова. Друзьям удалось выхлопотать еще недолгую отсрочку его отъезда, к явному неудовольствию А. X. Бенкендорфа и придворных врагов поэта. Приблизительно через месяц Лермонтова вызвали в инспекторский департамент военного министерства к дежурному генералу П. А. Клейнмихелю, который предложил ему в сорок восемь часов оставить Петербург и отправиться в полк.
По-видимому, именно в эти дни под непосредственным впечатлением от разговора с Клейнмихелем было написано известное стихотворение Лермонтова, обращенное к николаевской крепостнической России:
Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ. Быть может, за стеной Кавказа Сокроюсь от твоих пашей, От их всевидящего глаза, От их всеслышащих ушей.
12 апреля 1841 года, накануне отъезда на Кавказ, Лермонтов весь день провел у Карамзиных. Здесь он встретился с сыном П. А. Вяземского Павлом Петровичем, двадцатилетним молодым человеком, племянником Екатерины Андреевны. Он попросил Лермонтова перевести стихотворение Гейне "Сосна и пальма" (33-е стихотворение цикла "Лирическое интермеццо" из "Книги песен"). Софья Николаевна принесла сборник стихотворений Гейне на немецком языке, поэт "наскоро, в недоделанных стихах, набросал на клочке бумаги свой перевод", - вспоминал П. П. Вяземский. По пути на Кавказ Лермонтов продолжил работу над этим переводом. Так возникло стихотворение "На севере диком стоит одиноко...".
А вечером в тот же день друзья Лермонтова собрались у Карамзиных на прощальный вечер. Лермонтов был грустен.
В тот вечер у Карамзиных Лермонтов разговорился с Натальей Николаевной Пушкиной, с которой часто встречался и раньше, но никогда не решался беседовать откровенно. Много лет спустя дочь Натальи Николаевны, А. П. Арапова, урожденная Ланская, рассказала в своих воспоминаниях об этой последней беседе: "Нигде Наталья Николаевна Пушкина так не отдыхала душою, как на карамзинских вечерах, где всегда являлась желанной гостьей. Но в этой, пропитанной симпатией атмосфере, один только частый посетитель как будто чуждался её, и за изысканной вежливостью обращения она угадывала предвзятую враждебность.
Это был Лермонтов.
Слишком хорошо воспитанный, чтобы чем-нибудь выдать чувства, оскорбительные для женщины, он всегда избегал всякую беседу с ней, ограничиваясь обменом пустых, условных фраз.
Матери это было тем более чувствительно, что многое в его поэзии меланхолической струей подходило к настроению ее души, будило в ней сочувственное эхо. Находили минуты, когда она стремилась высказаться, когда дань поклонения его таланту так и рвалась ему навстречу, но врожденная застенчивость, смутный страх сковывали уста. Постоянно вращаясь в том же маленьком кругу, они чувствовали незримую, но непреодолимую преграду, выросшую между ними.
Наступил канун отъезда Лермонтова на Кавказ. Верный дорогой привычке, он приехал провести последний вечер к Карамзиным, сказать грустное прости собравшимся друзьям. Общество оказалось многолюднее обыкновенного, но, уступая какому-то необъяснимому побуждению, поэт, к великому удивлению матери, завладев освободившимся около нее местом, с первых слов завел разговор, поразивший ее своей необычайностью.
Он точно стремился заглянуть в тайник ее души, чтобы вызвать ее доверие, сам начал посвящать ее в мысли и чувства, так мучительно отравлявшие его жизнь, каялся в резкости мнений, в беспощадности суждений, так часто отталкивавших от него ни в чем перед ним не повинных людей.
Мать поняла, что эта исповедь должна была служить в некотором роде объяснением; она почуяла, что упоение юной, но уже признанной славой не заглушило в нем неудовлетворенность жизнью. Может быть, в эту минуту она уловила братский отзвук другого, мощного, отлетевшего духа, но живое участие пробудилось мгновенно и, дав ему волю, простыми, прочувствованными словами она пыталась ободрить, утешить его, подбирая подходящие примеры из собственной тяжелой доли. И по мере того как слова непривычным потоком текли с ее уст, она могла следить, как они достигали цели, как ледяной покров, сковывавший доселе их отношения, таял с быстротою вешнего снега, как некрасивое, но выразительное лицо Лермонтова точно преображалось под влиянием внутреннего просветления.
В заключение этой беседы, удивившей Карамзиных своей продолжительностью, Лермонтов сказал:
- Когда я только подумаю, как мы часто с вами здесь встречались!.. Сколько вечеров, проведенных здесь, в этой гостиной, но в разных углах! Я чуждался вас, малодушно поддаваясь враждебным влияниям. Я видел в вас только холодную, неприступную красавицу, готов был гордиться, что не подчиняюсь общему здешнему культу, и только накануне отъезда надо было мне разглядеть под этой оболочкой женщину, постигнуть обаяние искренности, которое не разбираешь, а признаешь, чтобы унести с собой вечный упрек в близорукости, бесплодное сожаление о даром утраченных часах! Но когда я вернусь, я сумею заслужить прощение и, если не слишком самонадеянна мечта, стать когда-нибудь вам другом. Никто не может помешать посвятить вам ту беззаветную преданность, на которую я чувствую себя способным.
- Прощать мне вам нечего, - ответила Наталья Николаевна, - но если вам жаль уехать с изменившимся мнением обо мне, то поверьте, что мне отраднее оставаться при этом убеждении.
Прощание их было самое задушевное, и много толков было потом у Карамзиных о непонятной перемене, происшедшей с Лермонтовым перед самым отъездом".
Об этой последней встрече с Лермонтовым Наталья Николаевна говорила: "Случалось в жизни, что люди поддавались мне, но я знала, что это было из-за красоты. Этот раз была победа сердца, и вот чем была она мне дорога. Даже и теперь мне радостно подумать, что он не дурное мнение обо мне унес с собою в могилу".
О том, что на прощальном вечере у Карамзиных Лермонтов долго и сердечно разговаривал с Н. Н. Пушкиной, свидетельствует и запись в журнале П. А. Плетнева: "прощанье их было самое задушевное".
Перед отъездом из Петербурга Лермонтов, очевидно, не раз бывал и у В. Ф. Одоевского, который в это время жил в доме Долгорукова на набережной реки Фонтанки. Ольге Степановне Одоевской Лермонтов подарил свою книгу. Под заглавием "Герой нашего времени" он чернилами написал: "упадает к стопам ее прелестного сиятельства, умоляя позволить ему не обедать" (ныне хранится в музее ИРЛИ). В. Ф. Одоевский подарил Лермонтову альбом для записи стихов. На этом альбоме он сделал надпись: "Поэту Лермонтову дается сия моя старая и любимая книга с тем, чтобы он возвратил мне ее сам, и всю исписанную. К[нязь] В. Одоевский. 1841. Апреля 13-ое, СПб." (хранится в Государственной Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова- Щедрина в Ленинграде).
По пути на Кавказ и, возможно, в Пятигорске Лермонтов в этом альбоме написал несколько самых лучших своих стихотворений: "Спор", "Тамара", "Свидание", "Дубовый листок оторвался от ветки родимой...", "Выхожу один я на дорогу...".
Томительное одиночество, глубокая тоска, думы о близкой и неизбежной смерти, усталость и отчаяние, и вместе с тем жажда любви и счастья, понимание того, что при иных условиях жизнь могла бы быть прекрасной,- вот чем полны последние стихотворения Лермонтова. И снова звучат мотивы, намечавшиеся в переводе "Из Гете" ("Горные вершины...") и в "Благодарности":
В небесах торжественно и чудно! Спит земля в сиянье голубом... Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего? Жалею ли о чем?
Видимо, перед самым отъездом из Петербурга поэт преподнес Одоевскому картину своей работы "Крестовая гора", которая сохранилась до нашего времени (ныне она находится в экспозиции Государственного музея- заповедника М. Ю. Лермонтова в Пятигорске). На картине надпись, сделанная Одоевским: "Эта картина рисована поэтом Лермонтовым и подарена им мне при последнем его отъезде на Кавказ. Она представляет Крестовую гору..."
14 апреля 1841 года в 8 часов утра Лермонтов в последний раз покинул Петербург. С ним на Кавказ ехал Алексей Аркадьевич Столыпин (Монго). Через два дня, 16 апреля, М. А. Языков, сотрудник конторы "Отечественных записок", писал М. Н. Каткову: "Здесь был Лермонтов и отправился на Кавказ, оставив большую тетрадь стихов, которые будут напечатаны в "Отечественных записках"".
В конце июля 1841 года к Карамзиным из Красносельского лагеря, где происходили обычные в это время маневры, приехал флигель-адъютант Н. Д. Лужин и сообщил, что "в главной квартире" только что получено известие о трагической гибели Лермонтова. По его словам, Николай I, узнав о том, что Мартынов 15 июля убил Лермонтова на поединке у подножья Машука около Пятигорска, сказал: "собаке - собачья смерть".
Несколько иначе и подробнее об этой позорной фразе российского самодержца сообщил редактор журнала "Русский архив" П. И. Бартенев: "Государь, по окончании литургии, войдя во внутренние покои (в Зимнем дворце или в Петергофе.- Авт.) кушать чай со своими, громко сказал:
- Получено известие, что Лермонтов убит на поединке, - собаке собачья смерть!
Сидевшая за чаем великая княгиня Мария Павловна Веймарская, эта жемчужина семьи, как называл ее граф С. Р. Воронцов, вспыхнула и отнеслась к этим словам с горьким укором. Государь внял сестре своей (на десять лет его старше) и вошедши назад в комнату перед церковью, где еще оставались бывшие у богослужения лица, сказал: "Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит"".
В эти дни Елизавета Алексеевна Арсеньева находилась в Петербурге и ждала писем от внука. А писем не было ни по "легкой", ни по "тяжелой" (т. е. более медленной, грузовой) почте. Последнее письмо из Пятигорска было от 28 июня. В нем Михаил Юрьевич просил переслать ему в Пятигорск книгу стихотворений Е. П. Ростопчиной с ее надписью, "полное собрание сочинений Жуковского последнего издания" и "полного Шекспира, по-английски". Аким Павлович Шан-Гирей давно выполнил поручение своего друга, а подтверждения, что книги дошли, все не было,
Наталья Алексеевна Столыпина, родная сестра Елизаветы Алексеевны и вдова Григория Даниловича, узнала о смерти Лермонтова в начале августа, но долго не решалась объявить об этом несчастье. Елизавета Алексеевна как-то сама догадалась, что от нее скрывают страшную правду, и внутренне приготовилась. Прежде чем ей сообщили о гибели внука, о том, что он убит на дуэли Мартыновым, "кровь ей... пустили. Никто не ожидал, чтобы она с такой покорностью сие известие приняла, - писала об этом уже 26 августа Елизавета Аркадьевна Верещагина, - теперь всё богу молится, и собирается ехать в свою деревню (Тарханы.- Авт.), на днях из Петербурга выезжает. Мария Якимовна (Шан-Гирей.- Авт.), которая теперь в Петербурге, с ней едет..."

Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. Современное фото
Смерть Лермонтова была большим горем для семьи Карамзиных, для М. А. Щербатовой, для Е. П. Ростопчиной. Но был в Петербурге еще один дом, где эту горестную весть приняли особенно трудно: дом Н. Ф. Бахметева. 18 сентября Мария Александровна Лопухина, сестра Варвары Александровны, Вареньки, сообщала своей приятельнице Александре Михайловне Верещагиной-Хюгель в Германию: "Последние известия о моей сестре Бахметевой поистине печальны. Она вновь больна, ее нервы так расстроены, что она вынуждена была провести около двух недель в постели, настолько была слаба. Муж предлагал ей ехать в Москву - она отказалась, за границу - отказалась и заявила, что решительно не желает больше лечиться. Быть может, я ошибаюсь, но я отношу это расстройство к смерти Мишеля, поскольку эти обстоятельства так близко сходятся, что это не может не возбудить известных подозрений. Какое несчастье эта смерть! Бедная бабушка самая несчастная женщина, какую я знаю. Она была в Москве, но до моего приезда; я очень огорчена, что не видела ее. Говорят, у нее отнялись ноги и она не может двигаться. Никогда не произносит она имени Мишеля, и никто не решается произнести в ее присутствии имя какого бы то ни было поэта. Впрочем, я полагаю, что мне нет надобности описывать все подробности, поскольку ваша тетка, которая ее видала, вам, конечно, об этом расскажет. В течение нескольких недель я не могу освободиться от мысли об этой смерти, я искренно ее оплакиваю. Я его действительно очень, очень любила".
4 августа 1841 года П. А. Вяземский писал А. Я. Булгакову из Царского Села: "Мы все под грустным впечатлением известия о смерти бедного Лермонтова. Большая потеря для нашей словесности. Он уже многое исполнил, а еще более обещал. В нашу поэзию стреляют удачнее, нежели в Лудвига Филиппа. Второй раз не дают промаха. Грустно!" И дальше: "...сердечно жаль Лермонтова, особенно узнавши, что он был так бесчеловечно убит. На Пушкина целила по крайней мере французская рука, а русской руке грешно было целить в Лермонтова..."
Через год, 20 июля 1842 года, Герцен записал в дневнике: "Да и в самой жизни у нас так, все выходящее из обыкновенного порядка гибнет - Пушкин, Лермонтов впереди, а потом от А до Z многое множество, оттого, что они не дома в мире мертвых душ".
12 августа 1841 года "высочайшим указом", данным в Петергофе, "умерший Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов" был исключен из списков. Поручику Михаилу Лермонтову уже не суждено было когда- либо появиться на улицах Петербурга.
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://m-y-lermontov.ru/ "M-Y-Lermontov.ru: Михаил Юрьевич Лермонтов"