
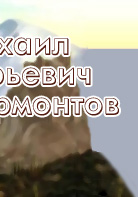
Библиотека
Энциклопедия
Ссылки
О проекте

Дуэль и смерть
1
Обращаемся к мемуарам о последних неделях жизни Лермонтова. Кажется, что с поэтом произошла таинственная метаморфоза. Пятигорские свидетели рисуют образ забияки, вышедшего с Мартыновым на "обыкновенную офицерскую дуэль" из-за мальчишеской ссоры. Утверждали, что на водах Лермонтов напускал на себя какое-то щегольство пустотой и легкомыслием. Из-за этой пресловутой "двойственности" окружающие, мол, не могли замечать литературной работы Лермонтова. "Если б тогда мы смотрели на Михаила Юрьевича как теперь, этого бы не было. Он для нас был молодым человеком, как все", - оправдывалась Э. А. Шан-Гирей, рассказывая П. А. Висковатову, что у нее "были изорваны детьми родственников рисунки и наброски Лермонтова".
Висковатов сам был автором этой ложной концепции. "Большинство видело в нем не великого поэта, а молодого офицера, о коем судили и рядили так же, как о любом из товарищей, с которыми его встречали", - писал он. В своей книге Висковатов тенденциозно подобрал курьезные и случайные отзывы ограниченных людей о поэтической работе Лермонтова и заключал: "Где было Мартынову задумываться над Лермонтовым, как великим поэтом".
Это ходячее представление так же неверно в отношении пятигорского периода, как не оправдалось при оценке петербургского положения поэта. Мы уже убедились, что царь и его присные не игнорировали талант Лермонтова - они с ним боролись. К Лермонтову никогда не относились при дворе только как к недостаточно знатному лейб-гусарскому поручику, его выделяли как писателя. Обычно защитники противного мнения опираются на письмо М. Д. Нессельроде о дуэли Эрнеста Баранта, где Лермонтов назван "офицером Лементьевым". Но подлинника письма никто не видел. Вернее всего, что здесь имеет место ошибка переписчика, не поправленная парижским публикатором архива Нессельроде - внуком вице-канцлера. Царский дипломат XX века действительно мог не знать биографии Лермонтова, но графиня Нессельроде вряд ли могла забыть фамилию поэта, с такой сокрушающей силой повторившего нападки "Моей родословной" Пушкина в стихах о палачах славы и гения (известно, что у Пушкина был задет и вице-канцлер Нессельроде).
Неверное представление о положении Лермонтова в Петербурге распространяется и на пятигорский период его жизни. У нас нет никаких оснований думать, что на Кавказские Минеральные воды не дошла огромная прижизненная слава автора "Демона" и "Героя нашего времени". И тут надо заново посмотреть, кто окружал Лермонтова в Пятигорске.
Прежде всего отметим, что жандарм, осуществлявший летом 1841 года "надзор за посетителями минеральных вод", был петербургским офицером. Подполковник Кушинников с 29 марта 1839 года "состоял для особых поручений" при начальнике I Петербургского жандармского округа генерал-лейтенанте Полозове*. На Кавказ он выехал почти одновременно с Лермонтовым. Об этом свидетельствует рекомендательное письмо к П. X. Граббе, данное не кем иным, как А. П. Ермоловым. Опальный генерал приезжал в Петербург на свадьбу наследника. Но "не видел еще государя и потому сидит дома, никуда не выезжая", - свидетельствовал Корф 13 апреля**. Письмо Ермолова к Граббе представляет для нас интерес:
* (ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 4, № 635)
** (ЦГАОР, ф. 728, оп. 1, ч. 2, № 1817, ч. IV, л. 143)
"18 апреля 1841 г. С.-Петербург.
Отправляющийся на Кавказ корпуса подполковник Кушинников просил меня поручить его благосклонному вниманию Вашему. Об нем много говорили мне хорошего, и я в этом не хотел отказать близкому родному хорошему и долгое время приятелю моему Марченко, бывшего членом Государственного совета.
Он едет как обыкновенно отправляется к Минеральным водам чиновник жандармский и, вероятно, не будет напрашиваться на военные действия, на чем, впрочем, я настаивал, зная, что ты имеешь г-на Юрьева, к которому сделал уже привычку.
Итак, да будет по благоусмотрению твоему, а человеку достойному тебе приятно быть полезным! - Он будет уметь высокую дать цену благосклонному отзыву насчет его, отзыву много уважаемому".
Этот тип рекомендации ни к чему не обязывал Граббе. Еще в 1838 году Ермолов предупредил его: если письмо будет начинаться словами "такой-то NN просил меня дать ему письмо к Вашему превосходительству", значит, он пишет "о человеке, которого лично не знает и в его достоинствах не уверен"*. Совет Ермолова направить Кушинникова на линию не был исполнен. Петербургский жандарм устроился на Минеральных водах "для надзора за посетителями". В Ставрополь он явился, видимо, тогда же, когда и Лермонтов, но точная дата его приезда в Пятигорск не установлена. Осенью, по-видимому, его миссия на Минеральных водах уже была закончена. 17 сентября Кавказский областной начальник послал Бенкендорфу хвалебный отзыв об исполнении Кушинниковым своих обязанностей "минувшим летом"**. Особенно хвалить, казалось бы, было не за что, так как ссору и дуэль Мартынова с Лермонтовым он просмотрел. Как бы то ни было, 8 января 1842 года мы уже видим Кушинникова в Петербурге при исполнении своих обычных обязанностей при начальнике I округа жандармов генерал-лейтенанте Полозове***. Связано ли было пребывание Кушинникова на Минеральных водах с присутствием там поднадзорного Лермонтова, трудно сказать. Но забывать о коротком сроке службы Кушинникова на Кавказе (только летом 1841 года) тоже не следует****.
* (ЦГВИА, ф. 62, on. 1, № 15, л. 29, боб. - 6)
** (Временник Гос. музея "Домик Лермонтова", т. I. Пятигорск, 1947, с. 21)
*** (ЦГАОР, ф. 309, эксп. 2, № 228)
**** (Ср.: Латышев С., Мануйлов В. Как погиб Лермонтов.- Русская литература, 1966, № 2, с. 108)
По свидетельству старожилов в Пятигорске его прозвали "глаз Траскина". Но начальник штаба, постоянное пребывание которого было в Ставрополе, и сам часто появлялся на Минеральных водах. Сохранились его письма оттуда от 25 июня, затем 5 июля. 3 августа он был в Кисловодске*. Самое значительное его письмо к Граббе написано из Пятигорска 17 июля, он описывает дуэль и гибель Лермонтова. В этом письме заключено указание, что Траскин был в Пятигорске с 12 июля**.
* (Ср.: Недумов С. И. Лермонтовский Пятигорск. Ставрополь, 1974, с. 224, 271)
** (Вацуро В. Э. Новые материалы о дуэли и смерти Лермонтова. - Русская литература, 1974, № 1, с. 181 - 192)
Нельзя не вспомнить и данные, собранные С. А. Андреевым-Кривичем. Они характеризуют Траскина как ловкого и изворотливого интригана, связанного с военным министром А. И. Чернышевым давними связями*.
* (Андреев-Кривич С. А. М. Ю. Лермонтов в Кабардино-Балкарии. Нальчик, Эльбрус, 1979, с. 152)
Сохранились воспоминания учителя рисования И. К. Зайцева, в которых он рассказывает о встречах с Кушинниковым в Петербурге в литературном салоне М. М. Попова - известного чиновника III Отделения*. Не удивительно, что Кушинников, привлеченный к следствию об убийстве Лермонтова, в первые же дни, не задумываясь, так же как и Траскин, провел прямую аналогию между смертью Лермонтова и Пушкина. Поводом послужило обращение в следственную комиссию священника, остерегавшегося хоронить убитого на дуэли Лермонтова по христианскому обряду. 17 июля был получен официальный ответ следственной комиссии, подписанный в числе других членов также и Кушинниковым: "Не имея в виду законоположения, противящегося погребению поручика Лермонтова, мы полагали бы возможным предать тело его земле, так точно, как в подобном случае камер- юнкер Пушкин отпет был в церкви Конюшен императорского двора в присутствии всего города".
* (Русская старина, 1887, № 6, с. 678)
Как видим, ни петербургскому жандарму, ни пятигорской администрации не пришло в голову сравнивать дуэль Лермонтова с другими офицерскими поединками. Им сразу припомнилась дуэль Пушкина с Дантесом. Мы имеем другое очень точное свидетельство, что в таком же духе восприняла смерть Лермонтова и остальная публика в Пятигорске. Когда до священника В. Эрастова дошли слухи о "денежном пожертвовании", полученном священником Александровским за отпевание Лермонтова, он тотчас обратился за справками к коллежскому регистратору Рощиновскому, который, очевидно, нередко привлекался в нужных случаях для показаний. Чиновник обстоятельно ответил, что слышал рассказ Столыпина об этом на квартире у пятигорского коменданта. Когда же остальной причт, которому ничего не перепало из данных Столыпиным 200 рублей, написал по этому поводу донос в духовную консисторию, главным свидетелем оказался опять-таки Рощиновский. И благодаря возникшему кляузному делу до нас дошло очень точное описание похорон Лермонтова. Приводим показание Рощиновского от 12 октября 1842 года во всей красе его казенного слога:
"...В прошлом 1841 году, в июле месяце, кажется, 18 числа, в 4 или 5 часов пополудни, я, слышавши, что имеет быть погребено тело умершего поручика Лермонтова, пошел, по примеру других, к квартире покойника, у ворот коей встретил большое стечение жителей г. Пятигорска и посетителей Минеральных вод, разговаривавших между собой: о жизни за гробом, о смерти, рано постигшей молодого поэта, обещавшего много для русской литературы. Не входя во двор квартиры этой, я с знакомыми мне вступил в общий разговор, в коем, между прочим, мог заметить, что многие как будто с ропотом говорили, что более двух часов для выноса тела они дожидаются священника, которого до сих пор нет. Заметя общее постоянное движение многочисленного собравшегося народа, я из любопытства приблизился к воротам квартиры покойника и тогда увидел на дворе том не в дальнем расстоянии от крыльца дома стоящего о. протоиерея, возлагавшего на себя епитрахиль. В это самое время с поспешностью прошел мимо меня во двор местной приходской церкви диакон, который тотчас, подойдя к церковнослужителю, стоящему близ о. протоиерея Александровского, взял от него священную одежду, в которую немедленно облачился, и принял от него кадило. После этого духовенство это погребальным гласом обще начало пение: "Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас", и с этим вместе медленно выходило из двора этого; за этим вслед было несено из комнат тело усопшего поручика Лермонтова. Духовенство, поя вышеозначенную песнь, тихо шествовало к кладбищу: за ним в богато убранном гробе было попеременно несено тело умершего штаб- и обер-офицерами, одетыми в мундиры, в сопровождении многочисленного народа, питавшего уважение к памяти даровитого поэта или к страдальческой смерти его, принятой на дуэли. Таким образом, эта печальная процессия достигла вновь приготовленной могилы, в которую был опущен в скорости несомый гроб без отправления по закону христианского обряда: в этом я удостоверяю как самовидец..."* Даже местный чиновник, человек далекий от литературы, понимал,что Лермонтов не обыкновенный молодой офицер, а "даровитый поэт". Его рассказ убедительно свидетельствует о "многочисленном народе", живущем в Пятигорске, понимающем все значение Лермонтова для русской литературы. О том же, только более эмоционально, рассказывает один из почитателей таланта Лермонтова, бывший в эти дни в Пятигорске:
* (Соколов Л. Около смерти М. Ю. Лермонтова. Киев, 1915. с. 6, 10)
"...толпа народа не отходила от его квартиры. Дамы все приходили с цветами и усыпали его оными, некоторые делали прекраснейшие венки и клали близ тела покойника. Зрелище это было восхитительно и трогательно. 17-го числа в час поединка его хоронили. Все, что было в Пятигорске, участвовало в его похоронах. Дамы все были в трауре, гроб его до самого кладбища несли штаб и обер-офицеры, и все без исключения шли пешком до кладбища. Сожаление и ропот публики не умолкали ни на минуту. Тут я невольно вспомнил о похоронах Пушкина. Теперь 6-й день после этого печального события, но ропот не умолкает"*.
* (Литературное наследство, 1952, № 58, с. 490)
Эти подлинные рассказы очевидцев убеждают, что в Пятигорске, так же как и во всей грамотной России, прекрасно знали, что Лермонтов - поэт, сравниваемый с Пушкиным.
Свидетельства прямо с места событий повышают наше доверие и к позднейшим воспоминаниям людей, бывших в 1841 году в Пятигорске. Так, А. В. Дружинин слышал от современников, что Лермонтов "имел на всем Кавказе славу льва-писателя"*.
* (См. выше, главу "Неизвестный друг")
Даже А. И. Васильчиков, пытавшийся впоследствии оправдаться непониманием значения поэта при его жизни, в действительности еще 30 июля 1841 года писал Ю. К. Арсеньеву: "Отчего люди, которые бы могли жить с пользой, а м(ожет) б(ыть) и с славой, Пушкин, Лермонтов, умирают рано, м(ежду) т(ем) как на свете столько беспутных и негодных людей доживают до благополучной старости"*.
* (Вестник знания, 1928, № 3, с. 131)
Таким образом, ссылки П. А. Висковатова на рассказы А. И. Васильчикова и Э. А. Шан-Гирей теряют свою убедительность.
Сам биограф поэта сообщал, что прапорщик С. Д. Лисаневич, которого подстрекали вызвать Лермонтова на дуэль, отказался от этого: "что вы, возражал он, чтобы у меня поднялась рука на такого человека!" По словам Висковатова, Э. А. Шан-Гирей тоже знала об этом случае.
Другой эпизод. В Пятигорск приехал профессор Московского университета И. Е. Дядьковский, имя которого, по словам Аполлона Григорьева, "было окружено рабо- лепнейшим уважением, и оно же было именем борьбы живой эоловой науки со старою рутиной". Философ-материалист, врач-клиницист, участник передовых кружков 30-х годов, друг всех замечательных людей своего времени, Дядьковский привез Лермонтову в Пятигорск поклон и гостинец от его бабушки. Первая встреча почтенного ученого с поэтом произошла в доме, где остановился Дядьковский, а следующая - у Верзилиных, то есть в присутствии Э. А. Шан-Гирей. Вот как описывает эти встречи Н. Молчанов, живший вместе с Дядьковским:
"Иустин Евдокимович сам пошел к нему и не застав его дома, передал слуге его о себе и чтоб Лермонтов пришел к нему в дом Христофоровых. В тот же вечер мы видели Лермонтова. Он пришел к нам и все просил прошенья, что не брит. Человек молодой, бойкий, умом остер. Беседа его с Иустином Евдокимовичем зашла далеко за полночь. Долго беседовали они о Байроне, Англии, о Беконе. Лермонтов с жадностью расспрашивал о московских знакомых. По уходе его Иустин Евдокимовил много раз повторял: "Что за умница".
На другой день поутру Лермонтов пришел звать на вечер Иустина Евдокимовича в дом Верзилиных, жена Петра Семеиыча велела звать его к себе на чай. Иустин Евдокимович отговаривался за болезнью, но вечером Лермонтов его увез и поздно вечером привез его обратно. Опять восторг им:
- Что за человек! Экой умница, а стихи его - музыка, но тоскующая"*.
* (Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 715-719)
Много ли видела Э. А. Шан-Гирей офицеров, которые целый вечер читали бы у нее в доме свои стихи, восхитившие одного из самых просвещенных людей эпохи? Вряд ли Лермонтов казался ей и ее гостям "молодым человеком, как все". А ведь это было в том же самом доме, где через три дня произошла стычка Мартынова с Лермонтовым!
Даже стремясь подчеркнуть мелкие слабости Лермонтова, А. И. Васильчиков невольно показывает, как все окружающие видели в нем поэта, а не кутящего поручика. Таков рассказанный им эпизод с провинциальным стихотворцем, который явился к Лермонтову со своей поэмой. О его чтении своих бездарных стихов в лермонтовском кружке вспоминал и Н. П. Раевский.
Тут надо сказать несколько слов о спутниках поэта в самый последний день его жизни. Известно, что утром 15 июля в Железноводск приехала дальняя родственница поэта Екатерина Быховец - навестить Лермонтова. Она поехала в коляске со своей тетушкой по фамилии Обыденная, а верхами их сопровождали Лев Сергеевич Пушкин и юнкер Бенкендорф. Этого молодого человека, тщетно дожидавшегося в Пятигорске производства в офицеры, долгое время называли в лермонтовской литературе сыном шефа жандармов графа А. Х. Бенкендорфа. Мнимое сближение Лермонтова и брата Пушкина с сыном начальника тайной полиции бросало ложный и неприятный отблеск на пятигорское времяпрепровождение поэта. .К счастью, в документах военного министерства в делах о награждении офицеров за участие в осенней чеченской экспедиции 1840 года сохранились совсем другие сведения об этом, самом юном, лермонтовском знакомце (он родился в 1820 году). Александр Павлович Бенкендорф был сыном эстляндского военного генерал-губернатора, приходившегося шефу жандармов двоюродным братом. Юнкер Бенкендорф не принадлежал к той родне всесильного начальника, которой он оказывал свое покровительство. Николай I отнесся к юнкеру жестко, не дав своего "соизволения" на производство в офицеры. Царь причислил его к той группе офицеров и нижних чинов, "коих велено было представлять к наградам и производству" только за выдающиеся подвиги. Известно, что под действие этого повеления попал и Лермонтов, а также декабристы Вегелин и Черкасов*.
* (ЦГВИА, ф. 395, оп. 147/455. № 223, ч. 1)
Напомним, что М. В. Дмитриевский*, проведший с Лермонтовым последний день его жизни, приезжал в Пятигорск из Тифлиса специально для того, чтобы познакомиться с декабристами. Он писал стихи, которые нравились Лермонтову.
* (Новые данные о друге Лермонтова М. В. Дмитриевском, ошибочно фигурировавшем в лермонтоведении как И. Д. Дмитревский, приведены в статьях И. С. Чистовой и В. С. Шадури (в кн.: М. Ю. Лермонтов. Исследования и материалы. Л., Наука, 1979, с. 199, 209))
Как видим, на водах Лермонтов не изменял себе и был в кругу людей, которые могли ценить его дарование. К их числу принадлежал также князь В. С. Голицын.
Пятигорские старожилы придавали большое значение размолвке лермонтовского кружка с Голицыным в начале июля из-за устройства публичного бала для местного общества. По одной версии, друзья разошлись из-за того, что отказались пригласить на этот бал какую-то даму, которую хотел там видеть Голицын. По другой-Голицын пренебрежительно отозвался о всем кружке знакомых Лермонтова, заявив: "Здешних дикарей надо учить". Как бы то ни было, известно, что состоялось два бала: запомнившийся всем импровизированный бал 8 июля в гроте Дианы, убранном при участии Лермонтова с артистическим вкусом, и бал, устроенный Голицыным в Ботаническом саду, куда никто из друзей Лермонтова не был приглашен. Устроили его уже после смерти поэта,- по-видимому, 18 июля. Большинство биографов ставит этот бал в вину Голицыну и даже на этом основании берет под сомнение достоверность его сообщения о гибели Лермонтова. Между тем со слов Голицына Булгаков писал А. Тургеневу: "Россия лишилась прекрасного поэта и лучшего офицера. Весь Пятигорск был в сокрушении, да и вся армия жалеет об нем"*.
* (ИРЛИ, ф. 309)
Биографы Лермонтова почему-то не отдают себе отчета в том, что полковник Голицын-"центральный", командовавший всей кавалерией на левом фланге кавказской линии, Голицын, представлявший Лермонтова к золотому оружию, Голицын - ермоловский офицер, Голицын- знакомец Пушкина и Голицын, принимавший в 1841 году участие в пятигорских увеселениях,-одно и то же лицо. Поэтому не следует придавать такое преувеличенное значение размолвке, и к рассказу Голицына о гибели Лермонтова мы отнесемся далее с полным доверием. Голицын имел отношение и к литературе: печатался в альманахах 30-х годов, переписывался с Пушкиным. "Неистощимый и остроумный весельчак, устроитель всяких увеселений и затей, - вспоминал о В. С. Голицыне один из мемуаристов, - он писал стихи, водевили, пел куплеты собственного сочинения, любил казаться ценителем словесности, искусств, музыки, любил знакомиться с выдающимися людьми и покровительствовать талантам"*. Ясно, что Лермонтов импонировал Голицыну своим литературным именем, это лишний раз подтверждает, что в Пятигорске Лермонтов был окружен тем же вниманием, к которому он уже привык в Москве и Петербурге.
* (Дневник А. С. Пушкина. 1833-1836. Под ред. Б. Л. Модза- левского. М. - Пг., ГИЗ, 1923, с. 204)
В свете этих данных парадоксальное впечатление производит версия о том, что в основе ссоры Мартынова с поэтом лежало литературное соперничество.
2
Д. Д. Оболенский, написавший в 90-х годах для Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона специальную статью "Н. С. Мартынов", подчеркивал, что убийца Лермонтова "получил прекрасное образование, был человеком весьма начитанным и с ранней молодости писал стихи". Еще в 1852 году родная сестра Н. С. Мартынова, Е. С. Ржевская, беседуя в Гельсингфорсе с Я. К. Гротом, уверяла: "В юнкерской школе издавался литературный журнал, в котором оба они участвовали и старались колоть друг друга"*. Это сопоставление наивно**. Ни в одном из воспоминаний об юнкерской школе Мартынов не называется в числе эпиграмматистов, в то время как Лермонтов конкурировал в школе с такими признанными остряками, как небезызвестный Костя Булгаков и В. А. Вонлярлярский. Последний занимал всех товарищей своими "забавными шутками, - вспоминает один из бывших юнкеров. - Бывало, в школе, по вечерам, когда некоторые из нас соберутся, как мы тогда выражались, "поболтать", рассказы Вонлярлярского были неистощимы. Разумеется, при этом Лермонтов никому не уступал в остротах и веселых шутках"***. Ксенофонт Полевой, человек литературный, писал по тому же поводу: "Как жаль, что не сохранилась шутливая переписка, которую вели они (Лермонтов и Вонлярлярский) между собою в это время! Кто видел ее, те почитают забавные письма двух молодых друзей одним из остроумнейших произведений в своем роде"****. О дружбе Лермонтова с Вонлярлярским писал в своих незаконченных записках и Мартынов. "Эти два человека, как и должно было ожидать, сблизились, - писал он. - В рекреационное время их всегда можно было застать вместе. Лярский, ленивейшее создание в целом мире (как герой "Женитьбы" Гоголя), большую часть дня лежал с расстегнутой курткой на кровати. Он лежал бы и раздетый, но дисциплина этого не позволяла"*****. Остроумные выдумки двух талантливых людей остались Мартыновым не замеченными. Полное отсутствие чувства юмора - характерная черта этого раздражительного, надутого и обидчивого человека.
* (Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 3. СПб., 1896, с. 575)
** (Образцом гак называемого эпиграмматического стиля Мартынова могут служить пошлые анонимные вирши, на списке которых чьей-то рукой надписано: "подлец-Мартышка". Признание автором этой надписи Лермонтова основано на недоразумении: почерк лица, сделавшего надпись, ничего общего не имеет с почерком поэта. Научная экспертиза не производилась. Отпадает, следовательно, и утверждение, что "эпиграмма задела Лермонтова" (см.: Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 4-х томах, т. 1. Л., Наука, 1979, с. 624). Можно ли на-звать эти беззубые стишки эпиграммой, пусть судит читатель:
Mon cher Michel! Оставь Adel... А нет сил, Пей эликсир... И вернется снова К тебе Реброва. Рецепт возврати не иной. Лишь Эмиль Верзилиной
)
*** (Меринский А. Воспоминания. - Атеней, 1858, № 48, ч. VI, с. 288)
**** (Все сочинения Василия Александровича Вонлярлярского. СПб., 1853, ч. 1, с. III)
***** (Русский архив, 1893, кн. 8, с. 587)
Недоступной для понимания Мартынова осталась к драматизованная серия карикатурных рисунков Лермонтова, где в остроумных сюжетных ситуациях появлялся урод Mayeux - сам поэт, юнкер гусарского полка лейб-гвардии, Маешка. Комическое обыгрывание собственных недостатков было совершенно вне возможностей мартыновского склада ума.
Некоторые советские исследователи, ссылаясь на пять- шесть напечатанных в специальной биографической литературе стихотворений Мартынова, находили в них элементы подражания Лермонтову и на этом основании поддерживали версию о литературном соперничестве. Но кто же не подражал Лермонтову в те годы? Стихи Мартынова беспомощны и не всегда грамотны. Они не выходят за рамки любительских упражнений и механически воспроизводят какой-то средний уровень стихотворческой культуры того времени. Проза написана лучше, но ведь она гораздо более позднего происхождения,- это воспоминания. Что же удивительного, что, описывая Кавказ, Мартынов обратился к образцу, ставшему уже классическим, к "Герою нашего времени"? Это могло быть сделано даже бессознательно. О каком же "соревновании" может идти речь? Подобная гипотеза могла быть выдвинута только из-за непонимания масштаба прижизненной славы Лермонтова.
Многие современники утверждали, что причиной вызова Мартынова были карикатуры и эпиграммы, которыми Лермонтов его преследовал.
Тут необходимо сказать несколько слов о характере юмора Лермонтова, всегда имевшего обобщенный смысл. Никто в кругу поэта не умел так, как он, схватывать в своих карикатурах и эпиграммах самое существо предмета сатиры. Шуточная поэзия, шаржи и устные анекдоты не служили Лермонтову способом переключения внимания или отдыхом. Его остроумие было органически связано с непрекращающимся процессом его творческой мысли. Вынашиваемые им идеи, надолго овладевавшие им, вспыхивали в каком-то параллельном ряду мгновенными сатирическими импровизациями. Приведу примеры.
Рассказывают: как-то на масляной неделе веселая гусарская компания мчалась на тройках из Царского Села в Петербург. На заставе нужно было расписываться, обозначая чин, звание, имя. Лермонтов предложил создать "всенародную энциклопедию фамилий". Шалун и затейник Костя Булгаков, с которым Лермонтов всегда "соперничал в остротах", первый понял замысел приятеля и тотчас назвался "маркиз де Глупиньон". Посыпались "дон Скотилло", "пан Глупчинский", "лорд Дураксен", "боярин Болванешти" и т. д. и т. п. Лермонтов завершил эту интернациональную галерею титулованных дураков чисто фонвизинским: "российский дворянин Скот Чурбанов". В этот период он писал в "Сашке" о рабском униженье дворянства, о сердце подлеца, прикрытом мундиром чиновника.
Вспоминает Мартынов.
В юнкерскую школу поступили два новичка, оба в кавалергардский полк. "Это были, - пишет Мартынов, - Эммануил Нарышкин (сын известной красавицы Марьи Антоновны) и Уваров. Оба были воспитаны за границей: Нарышкин почти вовсе не умел говорить по-русски, Уваров тоже изъяснялся весьма плохо. Нарышкина Лермонтов прозвал "Французом" и не давал ему житья, Уварову также была дана какая-то особенная кличка, которой не припомню". Очень жаль, что Мартынов забыл самую суть насмешки Лермонтова. Ведь в "школьных" забавах Лермонтова тоже сказалось его презрение к космополитической бюрократии Николая I. Что касается "Француза", Эммануила Нарышкина, то кто же в те годы не знал, что он был сыном Александра I. Даже в тривиальных выходках юнкера Лермонтов остался верен своей ненависти ко двору.
Когда Лермонтов вернулся из первой ссылки в Царское Село, в гусарском полку служил А. Ф. Тиран - сын одного из участников убийства Павла I. Рассказ Лобанова о куплетах Лермонтова о Тиране подтверждается воспоминаниями Д. В. Стасова, наивно уверенного, что Лермонтов "бесился" из зависти к придворным успехам своего однополчанина - "он на него сочинял, разыгрывал, рисовал карикатуры, и раз даже написал целую поэму, в которой сначала описывал его рождение, жизнь, похождения и, наконец, смерть. В конце нарисовал надгробный памятник и к нему эпитафию:
Родился шут ...........тиран ................ А умер пьян"*.
* (Мануйлов В. А. Записки неизвестного гусара о Лермонтове.- Звезда, 1936, № 5, с. 187)
(Средних слов и строк Стасов не запомнил.)
Лобанов намекал, что в этих шутках была принципиальность: "Правда, это был смешной дурак, к тому же имевший несчастье носить фамилию Тиран". Фамилия, напрашивающаяся на политические каламбуры, что и говорить.
Сатирическая струя художественного дарования и склада ума Лермонтова находила себе выход в эпиграммах и карикатурах, отмеченных богатством художественной фантазии и драматургическим даром.
Жанр подобных злободневных произведений не может существовать без немедленной реакции читателя или зрителя. Они всегда рассчитаны на коллективное чтение и на авторское содружество. Такими соавторами у Лермонтова были на Кавказе - доктор Майер, в Царском Селе - Александр Долгорукий, в Петербурге - вероятно, С. А. Соболевский. В Пятигорске среди его приятелей было много талантливых рисовальщиков и остряков - Лев Пушкин, В. С. Голицын, "высокодаровитый" Сергей Трубецкой и, очевидно, М. П. Глебов.
А. И. Арнольди передает такой эпизод:
"Я часто забегал к соседу моему Лермонтову. Однажды, войдя неожиданно к нему в комнату, я застал его лежащим на постели и что-то рассматривающим в сообществе С. Трубецкого и что они хотели, видимо, от меня скрыть. Позднее, заметив, что я пришел не вовремя, я хотел было уйти, но так как Лермонтов тогда же сказал: "Ну, этот ничего", то и остался. Шалуны-товарищи показывали мне тогда целую тетрадь карикатур на Мартынова, которые сообща начертили и раскрасили. Это была целая история в лицах вроде французских карикатур: Cryptogram M-r la Lauvisse и проч., где красавец, бывший когда-то кавалергард, Мартынов был изображен в самом смешном виде, то въезжающим в Пятигорск, то рассыпающимся перед какою-нибудь красавицей и проч."*.
* (Воспоминания, с. 222-223)
Висковатову рассказали другой подобный эпизод:
"Однажды Мартынов вошел к себе, когда Лермонтов с Глебовым с хохотом что-то рассматривали или чертили в альбоме. На требование вошедшего показать, в чем дело, Лермонтов захлопнул альбом, а когда Мартынов, настаивая, хотел его выхватить, то Глебов здоровою рукой отстранил его, а Михаил Юрьевич, вырвав листок и спрятав его в карман, выбежал".
Даже поручик Н. П. Раевский, не столь близкий приятель Лермонтова, принимал участие в составлении альбома. "У нас велся точный отчет об наших parties de plaisir*,- рассказывал он писательнице Желиховской.- Их выдающиеся эпизоды мы рисовали в "альбоме приключений", в котором можно было найти все: и кавалькады, и пикники, и всех действующих лиц"**.
* (Нива, 1885, № 7, 8)
** (Увеселительные прогулки (фр.))
Об этом же альбоме рассказывал Висковатову А. И. Васильчиков: "Помню и себя, изображенного Лермонтовым, длинным и худым посреди бравых кавказцев. Поэт изобразил тоже самого себя маленьким, сутуловатым, как кошка вцепившимся в огромного коня, длинноногого Monro Столыпина, серьезно сидевшего на лошади, а впереди всех красовавшегося Мартынова, в черкеске, с длинным кинжалом. Все это гарцевало перед открытым окном, вероятно, дома Верзилиных. В окне были видны три женские головки"*.
* (Висковатов, с. 404)
Васильчиков прибавлял, что в своих карикатурах на Мартынова Лермонтов "довел этот тип до такой простоты, что просто рисовал характерную кривую линию да длинный кинжал, и каждый тотчас узнавал, кого он изображает". Может быть, никто из окружающих Лермонтова рисовальщиков не обладал таким артистическим карандашом, но коллективное авторство драматизованного альбома карикатур несомненно. Отрицала это только Э. А. Шан-Гирей, настаивавшая на том, что "Лермонтов рисовал сам, один", но воспоминания Арнольди и Раевского, а также рассказ Висковатова противоречат этому утверждению. В пользу соавторства Глебова говорит и то обстоятельство, что альбом этот не попал в опись вещей погибшего Лермонтова. Сама Шан-Гирей подтверждала, что Глебов показывал ей этот альбом вскоре после гибели поэта.
Описывая эпизод в комнате Глебова, Висковатов прибавлял: "Мартынов чуть не поссорился с Глебовым, который тщетно уверял его, что карикатура совсем к нему не относилась". Конечно, все эти сведения дошли до биографа Лермонтова через третьи руки, но настороженное отношение Мартынова к Глебову подтверждается документально. Касаясь в черновых показаниях следственной комиссии миролюбивых попыток секундантов, Мартынов писал: "они только хотели проверить меня". Эта вырвавшаяся фраза лучше всего иллюстрирует ту недоверчивость, с какой Мартынов относился даже к своему другу, соседу и секунданту - М. П. Глебову. Мартынов был предметом шуток и насмешек всей компании Лермонтова, в которую входили и друзья обиженного. "Этот Мартынов глуп ужасно, все над ним смеялись, - писала Екатерина Быховец, - он ужасно самолюбив; карикатуры его беспрестанно прибавлялись; Лермонтов имел дурную привычку острить"*.
* (Воспоминания, с. 347)
Что же подавало повод к этим насмешкам?
Ссора противников произошла не в великосветской среде, а на Кавказе, "где среди величавой природы со времени Ермолова не исчезал приют русского свободомыслия, где по воле правительства собирались изгнаниики, а генералы, по преданию, оставались их друзьями"*. В этой среде были свои герои и свое честолюбие. Мы уже убедились, что корпи обиды Васильчикова на Лермонтова лежали во внутренних трениях кавказской ссылки. Зная, что не только для него самого, но и для Столыпина и Трубецкого военная ссылка не была шуткой, Лермонтов не мог сочувствовать временной опале Васильчикова, возвращавшегося уже к отцу, в его саратовские деревни. Еще более претенциозной была в Пятигорске позиция отставного майора, который не подвергался больше никакой опасности.
* (Огарев Н. П. Избранные произведения, т. 2. М., Гослитиздат, 1956, с. 381)
Между тем Мартынов вполне усвоил себе неписаные, но твердые законы среды ссыльных. Когда его военная карьера была разбита (в феврале 1841 года), он стал тянуться к этому кругу, значение которого хорошо понимал. Так, в незаконченном очерке Мартынов с большим сочувствием характеризует старшего брата Александра Долгорукого - Николая. Это был талантливый юноша, известный своей выдающейся храбростью, погибший при штурме Шапсуго в 1837 году.
"Палатка его, - писал Н. С. Мартынов, - всегда была наполнена разжалованными, ссыльными политическими и разных других оттенков людьми, которыми так изобиловал кавказский край..."* Эти заметки написаны Мартыновым уже в пореформенную эпоху. Их либеральные тенденции перекликаются и со стихотворением Мартынова "Декабристам", которое даже сохранялось в списках в рукописных собраниях XIX века и могло быть напечатано только в 1908 году**. Написанное в 1870 году, оно дышит горячим участием к подвигу декабристов, но не обнаруживает понимания сущности этого исторического события.
* (Мартынов Н. С. Гуаша. - Русский архив, 1898, № 1, с. 318)
** (Нарцов А. Н. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых. Тамбов, 1904, с. 147)
Все, что мы знаем об образе жизни и деятельности Мартынова 50-70-х годов, дает нам право назвать его либерализм пустым заигрыванием. Кокетством было окрашено и его поведение в молодости на Кавказе. Об этом согласно говорят все без исключения очевидцы. Его утрированная "черкесская" одежда, огромный кинжал, бакенбарды, бритая голова -во всем, как нарочно, Мартынов неукоснительно следовал той моде, которая дала повод Лермонтову для изобретения собирательного имени "1'агтёе russe". Не обладая военной доблестью ермоловских офицеров, Мартынов зато олицетворял собою те черты "настоящего" кавказца, о которых Лермонтов говорит в своем очерке с такой горечью. Только в свете вскрытых нами идей "Кавказца" можно полностью расшифровать смысл эпиграммы, приписываемой В. И. Чилаевым Лермонтову:
Скинь бешмет свой, друг Мартыш, Распояшься, сбрось кинжалы, Вздень броню, возьми бердыш И блюди нас, как хожалый.
По мастерству, с которым в этом экспромте дано скрещиванье разных смыслов, можно с уверенностью сказать, что сочинил его действительно Лермонтов. Рядом с прямым приглашением сменить кавказский народный костюм на старинную русскую военную одежду (идея "Кавказца") здесь уживается намек на неважные боевые качества Мартынова - ему оставалось бы только нести полицейскую службу (хожалый), - и насмешка над его мнительным отношением к шуткам товарищей ("блюди нас"), и, может быть, глухой намек на какие-то связи Мартынова с полицией или жандармерией.
Излюбленным прозвищем, которым Лермонтов награждал Мартынова, было, как известно, "montagnard au grand poignard" - в буквальном переводе "горец с большим кинжалом". Но французское слово "montagnard" имеет еще второй смысл, переносный. Оно вошло в русский обиход как синоним слова "революционер". Вспомним, в образе Грушницкого Лермонтов изображал не только ложный романтизм этого типа, но и фальшивую позу гражданского мученичества. В этом свете нам не покажутся лишенными основания замечания Глебова относительно "Героя нашего времени". Он сообщал Боденштедту, что Мартынов чувствовал в образе Грушницкого намек, обращенный к нему. Версия эта не может быть поддержана из-за хронологического несоответствия, но психологически она верна.
Есть глухие указания, что отставка Мартынова в феврале 1841 года была вызвана какой-то некрасивой карточной историей. Не надо забывать при этом, что убийца Лермонтова был родным племянником известного игрока, по мнению многих также и шулера, - Саввы Мартынова. Отсюда, вероятно, происхождение другой каламбурной клички Мартынова - "Маркиз де Шулерхоф".
На фоне всех этих фактов стремление Мартынова изображать из себя политическую жертву не могло не вызывать постоянного острого раздражения у Лермонтова.
3
Защитники Мартынова - а их немало - называли убийцу Лермонтова "благороднейшим человеком", ставшим жертвой жестокого характера поэта. Эти настроения отразились в письме земского деятеля Н. А. Елагина, сообщавшего 16 декабря 1875 года своим родным:
"Умер Мартынов лермонтовский; и все очень жалеют"*.
* (ГБЛ, ф. 90, картон 5, № 29)
Мартынов, член и завсегдатай Английского клуба, был любим и уважаем в среде московских тузов и в буржуазно-либеральных кругах. Пусть у большинства людей виновник преждевременной смерти великого поэта вызывал чувство любопытства, смешанного с ужасом,- московские баре относились к нему особенно бережно. "Если и был он виноват, - говорили они, - то, конечно, никак не более всякого другого дуэлиста, а между тем ни одному из них не привелось так тяжело искупать свой грех"*.
* (3абелла И. П. Из моих воспоминаний. - ГПБ, фонд С. Н. Шубинского)
Чем суровее осуждали Мартынова все, кому была дорога русская поэзия, тем более сострадали ему доброжелатели, взывая к чувству гуманности и справедливости современников. "В 1837 году, - читаем в воспоминаниях И. П. Забеллы, - благодаря ненавистному иностранцу Дантесу не стало у нас Пушкина, а через четыре года то же проделывает с Лермонтовым уже русский офицер; лишиться почти зараз двух гениальных поэтов было чересчур тяжело, и гнев общественный всею силою своей обрушился на Мартынова и перенес ненависть к Дантесу на него; никакие оправдания, ни время не могли ее смягчить. Она преемственно сообщалась от поколения к поколению и испортила жизнь этого несчастного человека, дожившего до преклонного возраста. В глазах большинства Мартынов был каким-то прокаженным..."
Забелла познакомился с Мартыновым в Английском клубе в конце 60-х годов. Впечатление от этой встречи он вынес самое трогательное. "Высокий, красивый, как лунь седой, старик Николай Соломонович Мартынов,- пишет он, - был любезный и благовоспитанный человек; но в чертах лица его и в прекрасных синих глазах видна была какая-то запуганность и глубокая грусть". Автор добавлял, что "люди, близко знавшие Мартынова", "говорили, что он набожен и не перестает молиться о душе погибшего от руки его поэта, а 15 июля - в роковой день - он обыкновенно ехал в один из окрестных монастырей Москвы, уединялся там и служил панихиду".
В молодости Мартынов не отличался той набожностью, которая трогала впоследствии его современников. Пресловутые ежегодные панихиды были введены им в обычай уже на склоне лет. В первые годы после дуэли он, напротив, отмечал годовщину смерти Лермонтова прошениями об облегчении своей участи. Первая его просьба, адресованная шефу жандармов Бенкендорфу 8 августа 1841 года, заключалась в том, чтобы за дуэль с Лермонтовым его судили военным, а не гражданским судом, которому он подлежал как отставной уже офицер. "Чего я могу ожидать от гражданского суда? - писал он секунданту М. П. Глебову с пятигорской гауптвахты.- Путешествия в холодные страны? Вещь совсем не привлекательная. Южный климат гораздо полезнее для моего здоровья, а деятельная жизнь заставит меня забыть то, что во всяком другом месте было бы нестерпимо моему раздражительному характеру"*. Как видим, Мартынов ожидал за убийство Лермонтова на дуэли либо сибирской каторги, либо отдачи в солдаты до выслуги в кавказской армии. Он предпочитал второе. Но вскоре опасения его рассеялись, и после милостивого приговора Николая I он очень осмелел.
* (Русский архив, 1893, № 8, с. 601)
В 1973 году на Украине были опубликованы С. Кравченко обнаруженные ею в государственных архивах документы, подробно отразившие многочисленные ходатайства Мартынова о смягчении своей участи*. Прохождение наложенной на него пятнадцатилетней епитимьи было связано с прикреплением к месту жительства, и это обстоятельство вызвало со стороны Мартынова поток просьб о поездке в Петербург, в Москву, в Воронеж, даже за границу "для лечения" и, наконец, об окончательном переселении в Москву.
* (Радянське лiтературознавство; 1973, № 1, с. 68-77)
По завершении производства военно-судного дела ему было в ноябре 1841 года "высочайше" разрешено уехать с Минеральных вод в Одессу еще до вынесения приговора.
После царской конфирмации приговора 3 января 1842 года он был направлен в Киев для трехмесячного заключения на гауптвахту, после чего его надлежало подвергнуть духовному покаянию. Перевод в Киев и дальнейшее там пребывание происходило под покровительством военного генерал-губернатора Д. Г. Бибикова, с которым семейство Мартыновых было в свойстве, а затем и в родстве*.
* (Дочь старшей сестры Мартынова, Е. С. Шереметьевой, вышла замуж за сына Бибикова)
Относительно места и срока епитимьи велась длинная ведомственная переписка. Назначение Киевской духовной консисторией пятнадцатилетнего срока привело в ужас Мартынова и все его семейство. Такой длительный срок объяснялся тем, что консистория приравняла убийство на дуэли к умышленному убийству. Мартынов немедленно откликнулся прошением на "высочайшее" имя, где протестовал против этой квалификации, приводя такие доводы: он был спровоцирован Лермонтовым к вызову; подойдя к барьеру, долго ждал его выстрела (а мы знаем, как вдалбливали ему в голову эту версию секунданты в своей потаенной переписке с ним в начале следствия!) и, наконец, что он подошел к убитому и простился с ним "по-христиански".
В Петербурге ему почти во всем шли навстречу, кроме одного знаменательного случая. Речь идет о его просьбе разрешить ему поездку за границу на воды. Вооруженный медицинским свидетельством, он обратился к Бибикову с просьбой поддержать его просьбу перед синодом. Но обер-прокурор синода понял, что высшая духовная власть не может взять на себя решение судьбы убийцы Лермонтова, и обратился к министру внутренних дел Л. А. Перовскому. Тот, в свою очередь, обратился 27 ноября 1844 года к А. Ф. Орлову, начальнику III Отделения. Царский приближенный написал на ходатайстве министра следующую резолюцию:
"Невозможно. Всюду, кроме заграницу, даже на Кавказ. Могу предст(авить) гос(ударю)"*.
* (ИРЛИ, ф. 524, on. 1, Mr 23, л. 28-33)
Тем исследователям, которые продолжают считать катастрофу Лермонтова "обыкновенной офицерской дуэлью", не мешало бы призадуматься над этой резолюцией.
Что касается остальных просьб, то они постепенно удовлетворялись.
Первое прошение о сокращении срока покаяния было
подано ровно через год после дуэли- 15 июля 1842 года.
Синод отклонил ходатайство Бибикова, указав, что "в случае истинного раскаяния духовный отец может и по своему усмотрению сократить время эпитимии".
В 1843 году Мартынов снова обращался с соответствующим прошением в синод, и срок епитимьи был уже сокращен ему до семи лет, то есть до 1848 года*.
* (Сборник биографий кавалергардов. 1826-1908. Составлен С. Панчулидзевым, т. IV. СПб., 1908. Статья "Н. С. Мартынов")
Через два года, 25 ноября 1846 года, синод "по прошению Мартынова" окончательно освободил его "от дальнейшей публичной эпитимии". Мартынов уже был женат и прожил еще несколько лет в Киеве. По ироническому выражению Н. С. Лескова, он составлял "одну из достопримечательностей" этого города. "Когда Мартынов проходил мимо кого-либо, кто его еще не знал, тому шепотом называли его, указывали и пр.", - рассказывал писатель А. Маркевич*. П. А. Висковатов утверждал (впрочем, не указывая источника своих сведений), что "Мартынов отбывал церковное покаяние в Киеве с полным комфортом. Богатый человек, он занимал отличную квартиру в одном из флигелей Лавры. Киевские дамы были очень им заинтересованы. Он являлся изысканно одетым на публичных гуляньях и подыскивал себе дам замечательной красоты, желая поражать гуляющих и своим появлением и появлением прекрасной спутницы"**.
* (Маркевич А. Заметки к биографии М. Ю. Лермонтова. - Русский архив, 1900, № 12, с. 623)
** (Висковатов, с. 445)
О фатовстве Мартынова рассказывали все встречавшие его еще и до его геростратовой славы. Даже оставивший враждебные воспоминания о Лермонтове Я. Костенецкий, встречавшийся с Мартыновым на Кавказе в 1839 и 1841 годах, описывал его весьма критически: "Это был очень красивый молодой гвардейский офицер, блондин со вздернутым немного носом и высокого роста. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел под фортепиано романсы и был полон надежд на свою будущность: он все мечтал о чинах и орденах и думал не иначе, как дослужиться на Кавказе до генеральского чина. После он уехал в Гребенской казачий полк, куда он был прикомандирован, и в 1841 году я увидел его в Пятигорске. Но в каком положении! Вместо генеральского чина он был уже в отставке всего майором, не имел никакого ордена и из веселого и светского изящного молодого человека сделался каким-то дикарем: отрастил огромные бакенбарды, в простом черкесском костюме, с огромным кинжалом, в нахлобученной белой папахе, мрачный и молчаливый"*.
* (Русский архив, 1887, № 1, с. 114)
А. В. Мещерский уверял, что Мартынов перевелся из кавалергардского полка в Нижегородский драгунский во время своего первого пребывания на Кавказе, "потому что мундир этого полка славился тогда, совершенно справедливо, как один из самых красивых в нашей кавалерии". "Я видел Мартынова в этой форме, - вспоминает Мещерский, - она шла ему превосходно. Он очень был занят своей красотой"*.
* (Там же, 1900, № 9, с. 80)
21 апреля 1838 года, одновременно с Лермонтовым, Мартынов вернулся с Кавказа в Петербург в кавалергардский полк. Там он прослужил до ноября 1839 года, отлучаясь в Москву только в марте 1839 года по случаю болезни и смерти отца.
30 октября того же года Мартынов по невыясненным причинам был опять переведен на Кавказ, на этот раз прикомандированный к Гребенскому казачьему полку. В 1840 году он участвовал в осенней чеченской экспедиции. В этом походе Лермонтов командовал дороховской "сотней" охотников, а Мартынов линейными казаками.
В 1841 году Мартынов уже в отставке. Обстоятельства ее остались неизвестными. Сохранилась запись в книге входящих и исходящих инспекторского департамента военного министерства от 10 февраля 1841 года "Об определении вновь на службу отставного майора Мартынова". Переписка на восьми листах была впоследствии уничтожена. Закончена она была 27 февраля*. Но еще 23 февраля царь подписал "высочайший" приказ об отставке Мартынова "по домашним обстоятельствам". Однако отставной майор домой не вернулся и остался на Кавказе. 2 июля в Петербурге царь отказал ему в награде, к которой он был представлен за осеннюю экспедицию**. В это время Мартынов уже жил в Пятигорске, где снимал квартиру сообща с М. П. Глебовым и бывал в местном салоне Верзилиных.
* (ЦГВИА, ф. 395, инспекторского департамента военного министерства, отд. 1, стол 4, св. 1288, № 296)
** (ЦГВИА, ф. 395, оп. 147/455, № 223, ч. 1 и 2)
Характерно, что старшая сестра Мартынова смело уверяла знакомых, что Н. С. Мартынов был вынужден выйти в отставку из-за дуэли с Лермонтовым. Эта ложь, рисующая в неприглядном свете семейство убийцы поэта, возможно, преследовала цель приглушить слухи об упоминавшейся уже карточной истории Мартынова, послужившей причиной его отставки 23 февраля 1841 года. Мы располагаем позднейшими свидетельствами о Мартынове как опытном игроке.
Один из мемуаристов писал в своих неизданных воспоминаниях о московском обществе 70-х годов:
"Не могу не упомянуть о Мартынове, которого жертвой пал Лермонтов. Жил он в Москве уже вдовцом, в своем доме в Леонтьевском переулке, окруженный многочисленным семейством, из коего двое его сыновей были моими университетскими товарищами. Я часто бывал в этом доме и не могу не сказать, что Мартынов-отец как нельзя лучше оправдывал данную ему молодежью кличку "Статуя Командора". Каким-то холодом веяло от всей его фигуры, беловолосой, с неподвижным лицом, суровым взглядом. Стоило ему появиться в компании молодежи, часто собиравшейся у его сыновей, как болтовня, веселье, шум и гам разом прекращались и воспроизводилась известная сцена из "Дон-Жуана". Он был мистик, по-видимому, занимался вызыванием духов, стены его кабинета были увешаны картинами самого таинственного содержания, но такое настроение не мешало ему каждый вечер вести в клубе крупную игру в карты, причем его партнеры ощущали тот холод, который, по- видимому, присущ был самой его натуре"*.
* (Голицын В. М. Воспоминания ("Старая Москва"), ч. II, с. 56, - ЦГАЛИ, ф. 1337)
Этот портрет написан очень субъективно, но некто Ф. Ф. Маурер, владелец богатого московского особняка, подтверждал, что Н. С. Мартынов вел в его доме крупную карточную игру. Маурер заходил даже еще дальше, уверяя, что это было единственной доходной статьей Мартынова.
Описал Маурер также очень важный эпизод, в котором Мартынов выдвинул свою версию причины его дуэли с Лермонтовым. Вообще, по наблюдению Маурера, Мартынов "весь сжимался", если кто заговаривал о Лермонтове. Хозяин предупреждал об этом своих гостей и просил не говорить о поэте в присутствии Мартынова. Но однажды в очень тесной мужской компании "Мартынова прорвало", и он сказал: "Обиднее всего то, что все на свете думают, что дуэль моя с Лермонтовым состоялась из-за какой-то пустячной ссоры на вечере у Вер- зилиных. Между тем это не так. Я не сердился на Лермонтова за его шутки... Нет, поводом к раздору послужило то обстоятельство, что Лермонтов распечатал письмо, посланное с ним моей сестрой для передачи мне. Поверьте также, что я не хотел убить великого поэта: ведь я даже не умел стрелять из пистолета, и только несчастной случайности нужно приписать роковой выстрел". Маурер прибавлял, что он "особенно не верил этому рассказу, зная, как безумно хотел Мартынов снять с себя клеймо убийцы Лермонтова"*.
* (Петербургская газета, 1916, 5 июля, с. 2)
Между тем версия о распечатанном пакете приобрела к 90-м годам такие права достоверности, что Д. Д. Оболенский ввел ее в свою статью о Мартынове в Энциклопедический словарь, откуда она перешла во все позднейшие дореволюционные издания как указание на единственную причину дуэли Лермонтова с Мартыновым. Нам надлежит ее проверить.
4
Версия о том, что Мартынов вызвал Лермонтова, защищая честь сестры (или сестер), появилась очень скоро после дуэли. В Москву она дошла еще в августе 1841 года, но не в виде рассказа о распечатанных письмах, а в гораздо более определенной форме. Утверждали, что Лермонтов вывел в образе княжны Мери сестру своего будущего убийцы.
22 августа студент Андрей Елагин (младший брат славянофилов Киреевских) писал отцу в деревню:
"Как грустно слышать о смерти Лермонтова, и, к несчастью, эти слухи верны. Мартынов, который вызвал его на дуэль, имел на то полное право, ибо княжна Мэри сестра его. Он давно искал случая вызвать Лермонтова, и Лермонтов представил ему случай, нарисовав карикатуру (он, говорят, превосходно рисовал) и представив ее Мартынову. У них была картель (...) я думаю, что за сестру Мартынову нельзя было поступить иначе..."
Тогда же (в августе 1841 года) Мефодий Никифорович Катков написал брату, "известному" Михаилу Никифоровичу Каткову, в Берлин:
"Семейство Аксаковых нанимало дачу в трех верстах от Никольского, и я часто виделся с Константином. Or него я услыхал страшную, убийственную весть, которой я не смел сперва поверить, - о смерти Лермонтова. Ты, я думаю, уже знаешь об этом. Мартынов, брат мнимой княжны Мэри, описанной в Герое нашего времени, вызвал его на дуэль, впрочем не за нее, а за личные оскорбления, насмешки (...) Лермонтов в самое сердце навылет был прострелен. Вот что пишут в Одесском вестнике: "15 июля, около 5 часов вечера, разразилась ужасная буря с молниею и громом: в это самое время между горами Машуком и Бештау скончался лечившийся в Пятигорске М. Ю. Лермонтов. С сокрушением смотрел я на привезенное сюда бездыханное тело поэта". Как грустно! Теперь русская литература заснет глубоким апатическим сном.
Странно, все русские поэты имеют одинаковую судьбу, все умерли противуестественною смертию (Грибоедов, Пушкин, Лермонтов).
Мартынов осужден на ужаснейшее, говорят, наказание. Лишение чинов и дворянства и несколько десятков лет ссылки в отдаленную крепость на тягостнейшую работу. Его сперва хотели было судить военным судом. Говорят, что Лермонтов слишком много себе позволял оскорблять и насмехаться над всеми, им все недовольны"*.
* (Герштейн Э. Г. Отклики современников на смерть Лермонтова. - В кн.: М. Ю. Лермонтов. Статьи и материалы. М., Соцэкгиз, 1939, с. 66 и 67)
В этих, уже обросших домыслами, рассказах варьируются разные слухи. Карикатура, насмешки и совсем новая причина ссоры и дуэли: сестра Мартынова - княжна Мери. Этот слух был очень упорен. Его передает даже Т. Н. Грановский:
"Лермонтов, автор "Героя нашего времени", единственный человек в России, напоминающий Пушкина, умер той же смертью, что и он. Он убит на дуэли г. Мартыновым, братом молодой особы, выведенной в его романе под именем княжны Мэри"*.
* (Т. Н. Грановский и его переписка. М., 1897, т. II, с. 128. Перевод с фр)
Такие же сведения дошли до русских за границу. Так, Н. А. Мельгунов писал из Флоренции Н. М. Языкову 1 декабря (нового стиля) 1841 года: "Спасибо вам за последние стихи Лермонтова... мне писали, что он убит на дуэли с Мартыновым, вызвавшим его за княжну Мэри (читали ль), в которой Лермонтов будто представил сестру того..."*
* (Литературное наследство, 1952, № 58, с. 492)
На эту же причину намекал и М. П. Глебов, часто беседовавший в Тифлисе о поэте с Фр. Боденштедтом, немецким переводчиком стихов Лермонтова и его биографом. "Не берусь решить, - писал Боденштедт, - что именно подало повод к этой последней дуэли, неосторожные ли остроты и шутки Лермонтова, как говорят некоторые, вызвали ее, или, как утверждают другие, противник его принял на свой счет некоторые намеки в романе "Герой нашего времени", и оскорблялся ими, как касавшимися при том и его семейства. В этом последнем смысле слышал я эту историю от секунданта Лермонтова г. Г(лебова), который и закрыл глаза своему убитому другу"*.
* (Современник, 1861, № 2, Современное обозрение, с. 327)
Версию о "княжне Мери" выдвинули также взрослые сыновья Мартынова, обратившиеся в 1893 году к Д. Д. Оболенскому с тем, чтобы он выступил в печати с публикацией сохранившейся у них переписки семейства Мартыновых о Лермонтове. Касаясь в этой публикации характера взаимоотношений поэта с сестрой Мартынова, Оболенский писал:
"Неравнодушна к Лермонтову была и сестра Н. С. Мартынова - Наталья Соломоновна. Говорят, что и Лермонтов был влюблен и сильно ухаживал за ней, а быть может и прикидывался влюбленным. Последнее скорее, ибо когда Лермонтов уезжал из Москвы на Кавказ, то взволнованная Н. С. Мартынова провожала его до лестницы; Лермонтов вдруг обернулся, громко захохотал ей в лицо и сбежал с лестницы, оставив в недоумении провожавшую"*.
* (Русский архив, 1893, № 2, с. 612)
"Одной нашей родственнице, старушке, - добавляет в другой редакции своих сообщений Оболенский, - покойная Наталья Соломоновна не скрывала, что ей Лермонтов нравится, и ей пересказывала с горечью последнее прощание с Лермонтовым и его выходку на лестнице"*. Описанная сцена вполне правдоподобна, если принять во внимание капризную и нервную натуру поэта. Но, варьируя в разных редакциях своих сообщений эту сцену, Оболенский совершенно не представлял себе, в каком году могло происходить это неловкое прощание. В другом своем сообщении Оболенский пишет: "Что сестры Мартыновы, как и многие тогда девицы, были под впечатлением таланта Лермонтова, неудивительно и очень было известно. Вернувшись с Кавказа, Наталья Соломоновна бредила Лермонтовым и рассказывала, что она изображена в "Герое нашего времени". Одной нашей знакомой она показывала красную шаль, говоря, что ее Лермонтов очень любил. Она не знала, что "Героя нашего времени" уже многие читали и что "пунцовый платок" помянут в нем совершенно по другому поводу..."** В другой статье он еще подробнее описывает этот эпизод: "Она только и говорила про Лермонтова, про прелести Кавказа, именно нашей родственнице, и в разговоре обратилась к вошедшей горничной, говоря: принесите же красную мою шаль, которую так любил Лермонтов, он в новом своем романе ввел и меня в героини романа"***.
* (Новое время, 1892, 6 марта. 62 См. примеч. 50)
** (См. примеч. 50)
*** (См. примеч. 51)
Сообщения Оболенского поразительны - они показывают полную его неосведомленность. Из дальнейшего изложения читатель убедится в бесспорном факте, что Мартыновы были на Кавказе в 1837 году, а "Княжна Мери", как известно, вышла в свет в апреле 1840 года. 8 мая Лермонтов приехал в Москву и пробыл здесь проездом на Кавказ три недели - до последней декады месяца. Если бы образ княжны Мери был навеян Натальей Мартыновой и если бы Лермонтов расстался с ней в 1837 году, подобно Печорину, он не мог бы с тех пор бывать у Мартыновых. Между тем в течение своего пребывания в Москве в 1840 году поэт часто навещал Мартыновых и даже "любезничал" с сестрами своего будущего убийцы, в том числе и с мнимой княжной Мери. Об этом свидетельствует дневник А. И. Тургенева:
"12 мая... После обеда в Петровское к Мартыновым, они еще не уезжали из города... Несмотря на дождь, поехали в Покровское-Глебово, мимо Всехсвятского... возвратились к Мартыновым - пить чай и сушиться. Князь Гагарин гарсевал* на коне своем. Лермонтов любезничал и уехал".
* (Курсив А.И. Тургенева)
"19 мая, воскресение... обедал дома, после в Петровское, гулял с гр. Зубовой, с Демидовыми, с Анненковой, с Мартыновыми...
Цыгане. Волковы, Мартыновы. Лермонтов; я благодарил к(нязя) Голицына за добрые дела. Наслушавшись цыган - поехал к Пашковым".
"22 мая... в театр, в ложи гр. Броглио и Мартыновых, с Лермонтовым; зазвали пить чай и у них и с Лермонтовым и с Озеровым кончил невинный вечер; весело. Сплетни и эпиграммы, непостоянство в ваших глазах, в Наталье Мартыновой что-то милое и ласковое для меня"*.
* (Дневник А. И. Тургенева. - ИРЛИ, ф. 309)
При лаконичной манере Тургенева каждое слово его дневника становится весомым. В записях о встречах Лермонтова с Мартыновыми нет ни намека на какую- либо драму или напряженность в отношениях. Тургенев подчеркивает: невинный и веселый вечер, Лермонтов с Озеровым, видимо, злословили, сочиняли эпиграммы, упрекали Наталью Мартынову в кокетстве. Где же обманутая, страдающая, разочарованная "княжна Мери"?! В таком же духе, как и Тургенев, описывала времяпрепровождение и настроение своих дочерей в это время мать Н. С. Мартынова. Но, прежде чем обратиться к этим строкам ее письма, нужно остановиться на запутанной истории с вскрытым пакетом, которую Н. С. Мартынов настойчиво приводил в качестве "истинной причины" дуэли.
Сопоставим опубликованную Д. Д. Оболенским в "Русском архиве" и "Новом времени" переписку Мартыновых с копиями этих писем, сохранившимися в редакции "Русского архива" (Государственный Исторический музей).
5 октября 1837 года Николай Соломонович Мартынов писал отцу из Екатеринодара: "Триста рублей, которые вы мне послали через Лермонтова, получил, но писем никаких, потому что его обокрали в дороге, и деньги эти в письме также пропали, но он, само собой разумеется, отдал мне свои. Если вы помните содержание вашего письма, то сделайте одолжение, повторите; также и сестер попросите об этом от меня. Деньги я уже все промотал".
На это известие пришел ответ матери Н. С. Мартынова, посланный из Москвы 6 ноября 1837 года: "Как мы все огорчены тем, что наши письма, писанные через Лермонтова, до тебя не дошли. Он освободил тебя от труда их прочитать, потому что, в самом деле, тебе пришлось бы читать много: твои сестры целый день писали их; я, кажется, сказала: "при сей верной оказии". После этого случая даю зарок не писать никогда иначе, как по почте: по крайней мере остается уверенность, что тебя не прочтут".
Этими двумя письмами документальная часть инцидента исчерпывается. Третье письмо, опубликованное Оболенским в выдержках, было искусственно притянуто к эпизоду со вскрытием пакетов. 25 мая (год не указан) Е. М. Мартынова пишет сыну Николаю на Кавказ (строки, напечатанные Оболенским, выделяем курсивом):
"Где ты, мой дорогой Николай? Я страшно волнуюсь за тебя, здесь только и говорят, что о неудачах на Кавказе; мое сердце трепещет за тебя, мой милый; я стала более, чем когда-либо, суеверна: каждый вечер гадаю на трефового короля и прихожу в отчаяние, когда он окружен пиками: не будь таким же лентяем, как Мишель, пиши мне почаще, не лишай меня моего последнего утешения.
Мы еще в городе, погода все еще холодная, но я думаю перебраться во вторник; но сколько бы я ни меняла обстановки, воспоминание о моем горе всюду преследует меня, я влачу свое жалкое существование. Оплакивать воспоминания прошлого - занятие каждого моего дня, когда только я могу это делать; меня часто утомляют несносными делами. Лермонтов у нас чуть ли не каждый день. По правде сказать, я его не особенно люблю; у него слишком злой язык, и, хотя он выказывает полную дружбу к твоим сестрам, я уверена, что при первом случае он не пощадит и их; эти дамы находят большое удовольствие в его обществе. Слава богу, он скоро уезжает; для меня его посещения неприятны. Прощай, дорогой Николай, целую тебя от всей души, да благословит тебя бог.
Е.М.
P. S. Твои сестры спят, как обычно, я их еще не видала. Они здоровы и много веселятся; от кавалеров они в восторге"*.
* (ГИМ, ф. 445. Перевод с фр)
Это письмо было механически присоединено к двум предыдущим и с условной датой "1837 год" напечатано первым (как майское). Получалась стройная последовательность событий: весной (25 мая 1837 года) Е. М. Мартынова делится с сыном своими опасениями относительно злого языка Лермонтова, а не далее как осенью ее предчувствия уже оправдались: пропажа писем, засвидетельствованная 6 октября 1837 года письмом Н. С. Мартынова, подозрения семейства о злостном характере этой пропажи, выраженные в письме Е. М. Мартыновой 6 ноября 1837 года.
Однако как ни странно, но в публикации Д. Д. Оболенского была допущена подтасовка.
Майское письмо было написано в 1840 году, а не в 1837-м. Это лишает переписку Мартыновых того смысла, который ей хотели придать редактор "Русского архива" П. И. Бартенев, Д. Д. Оболенский и сын Мартынова. Мы не можем обвинять их в том, что они не потрудились высчитать, что на 25 мая 1837 года приходился вторник, в то время как в пропущенных строках; Е. М. Мартынова пишет: "Мы еще в городе, погода все еще холодная, но я думаю перебраться во вторник..." Не упрекнем издателей переписки и за то, что они не .распознали, о каких "неудачах на Кавказе" идет речь в напечатанной части письма. В 90-х годах могли не помнить, что военные действия на Кавказе в 1837 году были ознаменованы затишьем, а в 1840-м произошел разгром черноморской береговой линии, и как раз весной. Трудно было ожидать от тогдашних публикаторов подобных навыков вспомогательной научной работы. Но центральные события мартыновской семейной хроники должны были быть им знакомы! Знал же Н. С. Мартынов, передавший сыновьям заветную переписку, что его отец умер 21 марта 1839 года, и раньше этого времени мать не могла наполнять свое письмо вдовьим?! жалобами, опущенными в публикации Оболенского. Не могло быть написано это майское письмо и в 1841 году - Лермонтов в этом году был в Москве только пять дней и выехал оттуда на Кавказ 23 апреля.
Таким образом, Е. Мартынова говорит о тех же визитах Лермонтова в их дом, о которых в 1840 году пишет в своем дневнике А. И. Тургенев. "Он выказывает полную дружбу твоим сестрам, - пишет она, - эти дамы находят большое удовольствие в его обществе", "они много веселятся, от кавалеров они в восторге". Ситуации, изображенной в "Княжне Мери", нет и в помине.
Один из главных "кавалеров" сестер Мартыновых был укрывающийся в Москве от дуэли князь Лев Андреевич Гагарин. "Здешний лев - ваш Лев Гагарин, - пишет П. А. Вяземский родным 23 апреля. - На гуляньи, в течение двадцати минут видишь его пешком, на дрожках, верхом. Вся Москва полна его "пажескими проказами", но, впрочем, нет ничего предосудительного и его здесь любят"*.
* (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3271, л. 168об)
"Московское высшее общество приняло... очень радушно... кн. Гагарина, имевшего большой успех, - вспоминал об этом времени А. В. Мещерский. - Он был находчив и смел, так что его остроты охотно передавались во многих гостиных"*.
* (Из моей старины. Воспоминания кн. А. В. Мещерского. - Русский архив, 1900, № 10, с. 293)
"Он отличался необыкновенной свободой речи, - пишет Лобанов о Льве Гагарине, - это был непрерывный поток острот и насмешек при величайшей самоуверенности, смелости и предприимчивости с женщинами, любовью которых он овладевал так же легко, как и дружбой мужчин"*.
* (ГИМ, ф. 174, № 5. Перевод с фр)
Вместе с А. И. Барятинским и сыном московского генерал-губернатора князя Д. В. Голицына (не членом "кружка шестнадцати") -Лев Гагарин, племянник Мен- шикова, был главным вкладчиком "прекрасного праздника, стоившего 10 000 руб. и устроенного в начале мая в Петровском в честь молодых красавиц".
Девицы Мартыновы, только что начавшие выезжать после траура по отцу, имели большой успех: "Великий московский комераж!!! Закревский, говорят, влюблен в Мартынову, - пишет Вяземский 21 апреля. - На старости лет непременно в Москву перееду. Здесь сердце молодеет. Москва такая республика, что нет ни старших, ни младших"*.
* (См. примеч. 56, л. 175 и 169)
Лев Гагарин недаром "гарсевал на коне своем" перед Мартыновыми. Этот молодой человек, "выросший, - по словам Лобанова, - верным заложенным в нем инстинктам и безнравственным советам своего дяди- самого ядовитого, остроумного, беспринципного и порочного человека в России", вскоре стал женихом Юлии Мартыновой.
"Все ваши в Петербурге и Москве женятся. Здесь говорят о браке Льва Гагарина, который стал москвичом, с одной из Мартыновых, которая прелестна; они составят прекрасную парочку на несколько недель по крайней мере", - не без иронии писал А. И. Тургенев П. А. Вяземскому из Киссингена 17 августа 1840 года*.
* (Остафьевский архив князей Вяземских, т. IV. СПб., 1899, с. 123)
Еще не получив этого письма, Вяземский писал Тургеневу 25 августа: "Знаешь ли ты, что красавица твоя московская Мартынова выходит замуж за пострела Га- гаренка?"* 30 ноября 1840 года, описывая начало великосветского сезона в Петербурге, наследник писал сестре, великой княгине Марии Николаевне: "Из новых явлений нужно назвать молодую княгиню Гагарину, жену повесы. Ему 19 лет, ей 17. Она беременна, и он сказал мне, смеясь, что намерен расти вместе со своим первенцем. Молодец! Она отнюдь не дурна"**.
* (ИРЛИ, ф. 309, № 4715, л. 114)
** (ЦГАОР, ф. 728, on. 1, № 1193, л. 112. Перевод с фр)
Когда в Петербург пришло известие о смерти Лермонтова на дуэли, Корф ничего не мог вспомнить о противнике поэта, кроме того, что он "брат молоденькой княгини Гагариной"*.
* (Там же, ф. 728, on. 1, ч. 2, № 1817, т. IV, л. 250об)
Но если внимание светского общества было привлечено к племяннику А. С. Меншикова и его ухаживанию за Юлией Мартыновой, то в Москве мало кто заметил интерес Лермонтова к другой сестре Мартынова. Так, А. И. Тургенев не придал никакого значения "любезничанию" поэта. Узнав о гибели Лермонтова, он не мог догадаться, кто же стал его убийцей, называя его "каким- то Мартыновым". Не мог Тургенев также сообразить, на какой из сестер Мартыновых женится Гагарин.
Не заметил и П. А. Вяземский заинтересованности Лермонтова барышнями Мартыновыми, хотя и упоминает дважды поэта в своих московских письмах. 10 мая он пишет М. П. Валуевой: "Вчера обедал я с Лермонтовым у Гоголя на Девичьем поле под открытым небом".
А через неделю отмечает ухаживанья Лермонтова, но только не в доме Мартыновых, а в дружественном ему доме Оболенских: "Если Бартенева еще не уехала, - пишет Вяземский в Петербург 18 мая, - попроси у нее романс Leon, pardonne moi (Леон, прости меня), - отправь его Софии Александровне Евреиновой на Солянку в доме Оболенского. Лермонтов ведет здесь осаду Трои, т. е. трех сестер. (Lermantoff fait ici le siege de Troye, c'est a dire de trois soeurs)"*.
* (ЦГАЛИ, ф. 195, on. 1, № 3271, л. 178об. и 183об)
Какой фальшивой нотой на всем этом фоне звучат сетования некоего Бетлинга, случайного попутчика Мартынова, которого убийца Лермонтова посвятил в тайну "истинных причин" дуэли: "Мартынову было тяжело вообразить, как дерзко, как, скажем, нагло было попрано доверие сестер, отца, оказанное товарищу!"* Между тем отец давно умер, мать и думать забыла о недоразумении с пропавшими письмами, ее тревожило только будущее ее дочерей, а им уж, во всяком случае, было не до эпизода четырехлетней давности. Кто же был обижен?
* (Нива, 1885, № 20, с. 474)
Во всех своих рассказах о причинах дуэли Мартынов приводил эпизод с перехваченными письмами. Но он никогда не упоминал, что после своих встреч с Лермонтовым на Кавказе в 1837 году в течение последующих четырех лет он неоднократно имел случаи сталкиваться с поэтом и в Петербурге, и на Кавказе.
В 1841 году в Пятигорске он встретился с Лермонтовым дружески. "Давно ли он (Лермонтов) мне этого изверга, его убийцу, рекомендовал как товарища, друга!"- восклицала Екатерина Быховец.
О приятельских отношениях с Лермонтовым говорил и сам Мартынов в своих показаниях на суде. Прямые его заявления - "злобы к нему я никогда не питал, следовательно, мне незачем было иметь предлог с ним поссориться" и тому подобные - не имеют большого значения, потому что на суде, естественно, подсудимый старался скрыть излишние подробности, но в вычеркнутых фразах непроизвольно вырисовывается картина дружественных отношений обоих противников.
17 июля в самой первой редакции своих ответов следственной комиссии Мартынов описывал действия секундантов: "Они напоминали мне прежние мои отношения к нему, говорили о веселой жизни, которая всех нас еще ожидает в Кисловодске, и что все это будет расстроено моей глупой историей". В черновых ответах на вопросы окружного суда читаем: "Васильчиков и Глебов напоминали мне прежние мои отношения с ним и тесную связь, которая до сего времени существовала между нами"*.
* (Нечаева B.C. Суд над убийцами Лермонтова.- М. 10. Лермонтов. Статьи и материалы, с. 60, 53, 58)
Впоследствии Мартынов, забыв о "четырехлетней обиде", уверял П. И. Бартенева, что незадолго до дуэли Лермонтов заезжал к нему в Кисловодск, якобы "отвести душу". Э. А. Шан-Гирей, описывая последнюю стычку между Мартыновым и Лермонтовым, рассказывала: "На мое замечание-язык мой, враг мой - Михаил Юрьевич отвечал спокойно: - Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями"*. Даже в последние дни Лермонтов не заметил напряженности в отношении к нему Мартынова. Ничего не подозревали и окружающие. Е. Быховец уверяла, что "Лермонтов совсем не хотел его обидеть, а так посмеяться хотел, бывши так хорош с ним".
* (Русский архив, 1889, № 6, с. 317)
Когда в 90-х годах Д. Д. Оболенский пытался воскресить ходячую версию о "сестрах", а также и о "сестре", он писал: "Мартынов, конечно, не говорит, что Лермонтов компрометировал его сестер". Сыновья противника Лермонтова подхватывали это и замечали, что Мартынов "внешне оставался с Лермонтовым в приятельских отношениях"*. А сам Мартынов, объясняясь с Бартеневым, очевидно, должен был признать, что поведение его в такой интерпретации выглядело не совсем красивым и вовсе не рыцарским. В редакционном примечании к публикации переписки Мартыновых Бартенев указал, что убийца Лермонтова объяснял ему связь истории с письмами и дуэлью иначе. Когда летом 1841 года Лермонтов преследовал Мартынова насмешками, он "иногда намекал ему о письме, прибегая к таким намекам, чтобы избавиться от его приставаний". "Таков рассказ Н. С. Мартынова, слышанный от него мною и другими лицами", - добавлял П. И. Бартенев**. Таким образом, никакой четырехлетней обиды не было, а было желание хоть чем-нибудь досадить Лермонтову. Потому-то эта старая юношеская история всплыла опять в Пятигорске в 1841 году и стала известной их общим приятелям. А о том, чтобы притянуть давнишний эпизод к дуэльной истории, позаботились уже другие люди. "От одного из отставных офицеров, не пожелавшего, впрочем, предавать имени своего гласности, я узнал, что бывший московский полицмейстер, генерал-майор Николай Ильич Огарев, под начальством которого он служил когда-то, со слов Н. С. Мартынова, рассказывал ему, что натолк- пул Мартынова на мысль о дуэли из-за сестры один из жандармских офицеров, находившихся в Пятигорске в 1841 году, во время производства следствия по делу об его дуэли с Лермонтовым, который в таком смысле донес тогда о причинах дуэли генералу Дубельту"***. Так писал в 1893 году П. К. Мартьянов, литератор отнюдь не левого направления. В данном случае мы можем отнестись с доверием к сотруднику реакционного "Нового времени", позволившему себе сослаться на всем известного полицмейстера: теперь-то мы знаем, что петербургский жандарм Кушинников действительно руководил следствием в Пятигорске.
* (Русское обозрение, 1898, № 1)
** (Русский архив, 1893, № 8, с. 604, 607, 610)
*** (Мартьянов П. К. Новые сведения о Лермонтове. - Исторический вестник, 1893, № 11, с. 380)
Заметим, что родные Мартынова тоже приехали в Пятигорск, когда убийца Лермонтова был под судом.
Версия о распечатанных письмах и компрометации Натальи Соломоновны поддерживалась ими в течение всех последующих лет. Е. С. Ржевская, встретившаяся в 1852 году в Гельсингфорсе с Я. К. Гротом, представляла дело так, что поэт неудачно сватался к Наталье Марты- новой в 1837 году и поэтому-то и распечатал ее письмо к брату, чтобы узнать мотивы отказа. Взрослый сын Мартынова, наоборот, утверждал в 1898 году, что его отец потому не порывал дружеских отношений с Лермонтовым, что ждал от него в 1841 году в Пятигорске формального предложения той же Наталье. (С. Н. Мартынов утверждал, что Лермонтов написал "Тамань" для того, чтобы доказать Мартыновым, что его действительно обокрали на Кавказе. И это было напечатано в журнале!)
В корректуре этой статьи сохранились строки, где названа еще одна причина взаимного антагонизма противников. Сын Мартынова первоначально вел весь рассказ от лица самого Николая Соломоновича:
"...особенно отличалась своею красотой и остроумием Эмилия Александровна, которая несколько увлеклась мною, но за которою ухаживали все, в том числе и Лермонтов. У меня в то время были хорошие средства, собою я был не дурен и, только что вышед в отставку из военной службы, продолжал носить красивую форму гребенских казаков, которая очень шла ко мне..." И несколько ниже: "Эмилия Верзилина, за которою ухаживали как он, так и я, отдавала мне видимое предпочтение, которое от Лермонтова и не скрывала, что приводило этого крайне самолюбивого человека в неописуемое негодование"*.
* (ГБЛ, 386/128, 44. Фонд В. Я. Брюсова, связанного с редакцией "Русского архива" в 1898-1899 гг. В этот журнал первоначально была дана статья С. Н. Мартынова (см. примеч. 68))
Сбивчивость, бездоказательность и неубедительность объяснений Мартынова очевидна.
Самое важное в них то, что они указывают на отсутствие у Мартынова серьезных оправданий. Но версия о "пакете" служила другой цели. Она набрасывала тень на моральный облик Лермонтова. И Мартынов этим широко пользовался в течение всей своей жизни. Он заявлял направо и налево, что эпизод с письмами "дает мне право считать себя вовсе не так виновным, как представляют меня вообще". Он говорил об этом в провинции Пирожкову и Бетлингу, в Петербурге и в Москве распространял эту версию в Английском клубе и, как мы видели, в доме Маурера. Не остановилось семейство Мартыновых и перед компрометацией Натальи Соломоновны. Сама она вышла замуж за француза графа де Ла Турдоннэ, (неизвестно когда) и уехала за границу. От нее до нас не дошло никакого свидетельства об отношениях ее с Лермонтовым. Но частое упоминание ее имени в связи с дуэлью привело лишь к ее компрометации.
В публикации Оболенского есть фраза, указывающая, что, по его мнению, Наталья изображена Лермонтовым не в образе невинной и страдающей Мери, а в образе Веры. "Она не знала, что пунцовая шаль упоминалась в романе совсем по другому поводу", - как мы помним, заметил Оболенский*. Следовательно, Оболенский считал, что Вера, а не Мери олицетворяла в романе Лермонтова Наталью. О том же развязно писал и сын Мартынова в 1898 году. Так же поняли ситуацию и современники. В октябре 1841 года некий А. П. Смольянинов описывал преддуэльную историю: "Является Мартынов, чего лучше, шутки и колкие сатиры начинаются. - Мартынов мало обращал на них внимание или, лучше сказать, не принимал их на свой счет и не казался обиженным. - Это кольнуло самолюбие Лермонтова, который теперь уже прямо адресуется к Мартынову с вопросом, читал ли он "Героя нашего времени"? "Читал", - был ответ. - "А знаешь, с кого я писал портрет Веры?" - "Нет". - "Это твоя сестра". - Не знаю, что было причиною этого вопроса, к чему сказаны эти слова: "Это твоя сестра", которые стоили Лермонтову жизни, а нас лишили таланта, таланта редкого, - следствием этих слов был, конечно, вызов со стороны Мартынова. - Благородно он поступил, всякий бы сделал то же на его месте"**. Таким образом, из обывательских толков очень быстро выросла легенда, что Лермонтов вывел сестру Мартынова в образе замужней женщины, с которой у Печорина была любовная связь. Компрометация сестры, как видим, исходила от самого Мартынова и остальных членов его семейства.
* (Характерна эта ошибка Оболенского, забывшего, что пунцовый платок действительно покрывал плечи княжны Мери, когда ее, грустную и задумчивую, увидел через окно Печорин)
** (Мануйлов В. Отклик современника на смерть Лермонтова. - Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 720)
"Мартыновские" версии доходили и до слуха А. Н. Пыпина, поместившего в 1873 году вступительный биографический очерк Лермонтова в издании сочинений поэта под редакцией П. А. Ефремова. Ссылаясь на толки о "княжне Мери", Пыпин очень неточно пишет: "Прибавляют, что Мартынов был уже ранее знаком Лермонтову, который знал также семейство Мартынова в Петербурге, где видел его перед последним отъездом на Кавказ. Был слух, что недоразумение между ними шло и с этой стороны, и, по-видимому, не в пользу Лермонтова"*.
* (Сочинения Лермонтова с портретом его, двумя снимками почерка и статьею о Лермонтове А. Пыпина. Изд. 3. Под ред. П. Ефремова. 1873, с. IX, XXIII)
Однако до него доходили и другие слухи. В том же очерке он осторожно замечал: "До сих пор, кроме рассказов вышеприведенных, известны по слухам и другие подробности этой истории: со временем они, вероятно, разъяснятся..." Через несколько страниц, возвращаясь к истории дуэли, он пишет: "Относительно последней дуэли люди довольно компетентные говорят, что к ней не было никакого серьезного повода". Со своей стороны, М. И. Семевский, призывая Мартынова высказаться самому о дуэли, писал в 1869 году: "Искренность исповеди искупила бы до некоторой степени то несчастие, в которое г. Мартынов был, как говорят, почти против воли вовлечен"*.
* (Вестник Европы, 1869, № 8)
Одним из самых компетентных людей в этом вопросе был, конечно, А. А. Столыпин (Монго). Его отзыв о причинах дуэли выявил незадолго до своей кончины Б. М. Эйхенбаум. Он обратился в 1959 году к переводу на французский язык "Героя нашего времени", выполненному А. А. Столыпиным и напечатанному в 1843 году в Париже в фурьеристской газете. В редакционной заметке этой газеты, анонсирующей начало печатания перевода Столыпина в следующих номерах, прибавлено: "Г-н Лермонтов недавно погиб на дуэли, причины которой остались неясными"*. Б. Эйхенбаум правильно указал, что это могло быть написано только со слов А. А. Столыпина (Монго).
* (Эйхенбаум Б. М. Смысловая основа "Героя нашего времени".- Вопросы литературы, 1961, № 2)
Нам остается только согласиться с ближайшим спутником жизни поэта и свидетелем его гибели - причины дуэли Лермонтова с Мартыновым остались неясными.
5
"Лейб-гвардии конного полка корнет Глебов, вчерашнего числа к вечеру пришед ко мне на квартиру, объявил, что в 6 ч. веч. у подножия горы Машук была дуэль между отставным майором Мартыновым и Тенгинского пехотного полка поручиком Лермонтовым, на коей сей последний был убит", - писал в Пятигорский земский суд комендант Ильяшенков 16 июля 1841 года.
В тот же день Ильяшенков доносил командующему войсками П. X. Граббе:
"Секундантом у обоих был находящийся здесь для излечения раны лейб-гвардии конного полка корнет Глебов. Майор Мартынов и корнет Глебов арестованы, и о происшествии сем производится законное расследование и донесено государю императору за № 1356".
Но в таком виде рапорт послан не был. В текст чернового отпуска (он сохранился в деле), внесены поправки, после которых рапорт и был отправлен к Граббе. Теперь в нем содержались другие сведения:
"Секундантами были у них находящиеся здесь для пользования минеральными водами [со стороны] (вычеркнуто.- Э. Г.) лейб-гвардии конного полка корнет Глебов и служащий во II Отделении собственной его императорского величества канцелярии в чине титулярного советника князь Васильчиков"* и т. д.
* (ИРЛИ, ф. 524, on. 1, № 21, л. 4-6)
Итак, поначалу было решено объявить единственным свидлем Гео но н следующий же день был привлечен и Васильчиков. Замечательно, что Ильяшенков не знал, как указать, кто с чьей стороны был секундантом. Это было еще не решено.
"Рассказывали в Пятигорске, - замечал в своих записках А. И. Арнольди, - что заранее было условлено, чтобы только один из секундантов пал жертвою правительственного закона, что поэтому секунданты между собою кидали жребий, и тот выпал на долю Глебова, который в тот же вечер доложил о дуэли коменданту и был посажен им на гауптвахту. Так как Глебов жил с Мартыновым на одной квартире, правильная по законам чести дуэль могла казаться простым убийством, и вот, для обеления Глебова, А. Васильчиков на другой день сообщил коменданту, что он был также секундантом Лермонтова, за что посажен был в острог, где за свое участие и содержался"*.
* (Воспоминания, с. 225-226)
Подобная мотивировка высмеяна М. А. Корфом.
"Барон Ган, - пишет он в дневнике 30 сентября 1841 года, - на которого, впрочем, никогда нельзя вполне положиться, потому что во всяком действии и слове его предполагаешь une arriere pensee*, выпускает теперь, с видом величайшего секрета, довольно курьезную историю насчет участия Васильчикова в дуэли Лермонтова. По словам его, дуэль происходила при одном только Глебове, Васильчиков совсем не был секундантом, а лишь впоследствии добровольно выдал себя за секунданта, чтобы дуэль, как происходившая при одном секунданте, не была вменена Мартынову в простое смертоубийство. Очевидно, что распущение такого слуха, - хотя, конечно, и нельзя дать ему официальной гласности, потому что тогда пришлось бы судить Васильчикова за подлог, - не только извинит последнего, но еще и придаст ему особенный рельеф благородства в глазах государя, и что наказание последует только для формы, не повредив ни ему лично, ни его карьере. Но вопрос, правда ли это, а если вымысел, то тамошней ли фабрики, или здешней, самого Гана, который надеется через такую ловкую штуку выиграть опять в глазах Васильчикова-отца? Что тут есть вымысел, это почти несомненно: ибо наши законы не делают никакого различия в том, была ли дуэль при десяти секундантах или при одном, или совсем без секундантов, а неужели Васильчиков решился пожертвовать собою только для того, чтобы оградить Мартынова в общественном мнении?"
* (Заднюю мысль (фр.))
"Подлог", "вымысел" неизвестно чьей "фабрики" - эти слова современника достаточно выразительны. Тайная взаимовыручка всех участников дуэли была, оказывается, секретом полишинеля. Николай I лучше, чем кто-нибудь другой, знал, что документы официального военно-судного дела представляли собой только бюрократическую отписку.
Законник Корф прекрасно понимал, что Васильчиков не для того объявил себя секундантом Лермонтова, чтобы придать делу формально безупречный вид, а для того, чтобы облегчить участь подсудимых. Однако, как ни прочно было положение Васильчикова-отца, ни он, ни Корф не предполагали, что секунданты выйдут сухими из воды. "Если бы государь хотел оказать снисхождение моему сыну, то я сам буду первым ходатайствовать о наказании,- сказал И. В. Васильчиков М. А. Корфу 7 августа,- законы должны быть исполняемы в равной степени для всех; стану только просить об одной милости: чтобы не назначали ему местом заточения Кавказ, потому что там сущий вертеп разврата для молодых людей". 12 августа, излагая благоприятные для А. И. Васильчикова результаты царской аудиенции, Корф сообщает: "Обещано не заточать его на Кавказ, а всему прочему отец охотно его подвергает. Вероятно, что все кончится несколькими месяцами крепостного заключения". 21 августа, касаясь отъезда своего начальника из Петербурга, Корф добавляет: "Сын его, вместе с Мартыновым и Глебовым, судится на местах военным судом, и дело, разумеется, не может еще получить немедленного окончания". В это время Корф еще был уверен, что Васильчиков хоть несколько месяцев, но посидит в крепости. И только 30 сентября, рассказывая о "ловкой штуке" Гана, Корф уже понимает, что "наказание последует только для формы, не повредив ни ему лично, ни его карьере". К концу года, наблюдая течение событий в Петербурге, Корф уже не сомневался в благополучном исходе судебного рассмотрения. 12 января 1842 года он записывает: "Дело об участии молодого князя Васильчикова в дуэли Лермонтова получило тот конец, какого почти наверное ожидать надлежало. Несмотря на великодушное в прошлом году сопротивление старика, военный министр объявил нынче Блудову, - по служению молодого Васильчикова во II Отделении собственной его императорского величества канцелярии,- что государь всемилостивейше повелеть изволил его простить "во уважение к знаменитым заслугам отца". Новая цепь благодарности, привязывающая последнего к службе. Впрочем, об отставке теперь и речи нет, и в поднесенных самим же Васильчиковым к подписанию перед новым годом обыкновенных указах о подтверждении председателей и членов он опять подтвержден председателем на 1842-й год"*. Так дело о гибели Лермонтова обернулось бюрократическими интригами в очень высоких инстанциях. Не удивительно, что московский почт-директор А. Я. Булгаков, узнав об участии в дуэли сына председателя Государственного совета, воскликнул: "Князь Васильчиков будучи одним из секундантов, можно было предвидеть, что вину свалят на убитого, дабы облегчить наказание Мартынова и секундантов"**. В такой же уверенности пребывал и начальник штаба А. С. Траскин, который писал из Кисловодска 3 августа: "Расследование по делу о дуэли закончено... Впрочем, я думаю, что прежде, чем все это примет юридический ход, из Петербурга прибудет распоряжение, которое решит участь этих господ"***.
* (ЦГАОР, ф. 728, on. 1, ч. 2, № 1817, т. IV, л. 293-293об" 252, 259, 264об)
** (Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 712)
*** (Андреев-Кривич С. А. М. Ю. Лермонтов в Кабардино- Балкарии. Нальчик, Эльбрус, 1979, с. 155)
Понимая, насколько причастность к делу А. Васильчикова смягчит их участь, подсудимые, очевидно, потребовали от него, чтобы он явился к коменданту. Этим они не ограничились. М. А. Корф сообщает 7 августа: "Молодой Васильчиков в самый день дуэли отправил нарочного с известием об ней к своему отцу, который вследствие того тотчас и приехал сюда (третьего дня), прежде чем могло прийти к нему письмо Левашова".
Известие о дуэли пришло в Петербург лишь 1 или 2 августа, и Васильчиков, не дожидаясь, пока его родня вызовет отца из саратовского имения, поспешил сам с ним снестись.
Послал два письма в Петербург и М. П. Глебов. В них он дал полное описание дуэли (в духе официальной версии), переслал его младшему брату Монго, своему товарищу по юнкерской школе Д. А. Столыпину, с тем чтобы тот передал одно из них через А. И. Философова великому князю Михаилу Павловичу*.
* (Мартьянов П. К. Дела и люди века, т. II. СПб., 1893, с. 10-11)
Письма эти до нас не дошли, но и без того ясно, что оба секунданта, Васильчиков и Глебов, в день смерти Лермонтова проявили деловитость и расторопность, приняв необходимые меры для облегчения своей участи.
Но кто же из них был секундантом Лермонтова?
Фр. Боденштедт утверждал, что - Глебов, ссылаясь при этом на его же рассказы. Васильчиков же всю жизнь называл себя секундантом Лермонтова. Однако в известном печатном рассказе о дуэли он обмолвился в 1872 году, что был выбран свидетелем "по доверенности обеих сторон".
Когда П. А. Висковатов обратился к нему с прямым вопросом: кто же был секундантом со стороны Лермонтова, а кого выбрал своим доверенным лицом Мартынов, Васильчиков ответил: "Собственно секундантами были: Столыпин, Глебов, Трубецкой и я. На следствии же показали: Глебов себя секундантом Мартынова, я - Лермонтова. Других мы скрыли, Трубецкой приехал в Пятигорск без отпуска и мог поплатиться серьезно. Столыпин уже раз был замешан в дуэли Лермонтова, следовательно, ему могло достаться серьезнее"*.
* (Висковатов, с. 423)
Зная, как любил Лермонтов Столыпина и Трубецкого, можно полагать, что они и были его секундантами. В таком случае Глебов и Васильчиков остаются свидетелями со стороны Мартынова. Это подтверждается анализом документов.
На вопрос окружного суда, "чьи были пистолеты", Мартынов ответил: "Чьи были пистолеты, я не знаю, но Глебов мне сказал, что пистолеты будут".
На место дуэли Глебов приехал вместе с Васильчиковым на беговых дрожках Мартынова. "Я и Лермонтов ехали верхом на назначенное место. Васильчиков и Глебов на беговых дрожках", - писал Мартынов. Обоим он сумел передать черновик своих показаний. Этот пункт вызвал особые возражения секундантов. "Прочие ответы твои совершенно согласуются с нашими, исключая того, что Васильчиков поехал верхом на своей лошади, а не на дрожках беговых со мною; ты так и скажи" (писал записку Глебов). Согласно указанию секундантов, Мартынов изменил ответ. В окончательной редакции он звучит так: "Я, Лермонтов и Васильчиков ехали верхом на назначенное место; [Васильчиков] (зачеркнуто) Глебов на беговых дрожках". Еще в одном черновике Мартынов указал, что дрожки принадлежали ему. "Я выехал немного ранее из своей квартиры верхом, - свои беговые дрожки дал Глебову. Он, Васильчиков и Лермонтов догнали меня уже на дороге, - Лермонтов был также верхом". Нет, это показание не удовлетворяло секундантов: Васильчиков тоже ехал верхом, втолковывают они Мартынову*.
* (См. примеч. 66)
Из этих поправок отчетливо выясняется, что Васильчиков с Глебовым поехали на место встречи в беговых дрожках Мартынова, очевидно, они и были его секундантами.
Напомню, что эта уверенность долго сохранялась в Пятигорске. Н. А. Кузминский передавал, как поразило друзей Лермонтова, в частности Р. Дорохова, это решение Васильчикова*. Теперь, когда мы узнали, какое горячее участие принимал Дорохов в попытках отклонить дуэль и как настороженно и враждебно упоминал Васильчиков много лет спустя о знаменитом бретере, мы можем придать веру и позднему рассказу Кузминского.
* (Петербургская газета, 1887, 13 июля, с. 4)
Поскольку "тайна" участия Трубецкого и Столыпина была в 70-х годах уже открыта, Васильчикову, казалось бы, нечего было запутывать картину. Однако на вторичный прямой вопрос Висковатова, кто же был секундантом Лермонтова, Васильчиков ответил весьма странно: "Собственно не было определено, кто чей секундант. Прежде всего Мартынов просил Глебова, с коим жил, быть его секундантом, а потом как-то случилось, что Глебов был как бы со стороны Лермонтова"*. Как же это могло случиться? И что значит "как бы со стороны"?
* (См. примеч. 82)
Вспомним обстановку.
"Из тихой и прекрасной погоды вдруг сделалась величайшая буря, - писал Полеводин, - весь город и окрестности были покрыты пылью, так что ничего нельзя было видеть". "Буря утихла, - продолжает он, - и чрез пять минут пошел проливной дождь. Секунданты говорили, что как скоро утихла буря, то тут же началась дуэль, - и лишь только Лермонтов испустил последний вздох, - пошел проливной дождь"*. Мартынов, напротив, рассказывал Бетлингу: "На нашу общую беду шел резкий дождь и прямо бил в лицо секундантам"**. Офицер Федоров писал, что "все обвиняют секундантов, которые, если не могли отклонить дуэли, могли бы отложить, когда пройдет гроза"***. Васильчиков же уверял, в своей напечатанной статье, что стрелялись до грозы: "Черная туча, медленно поднимавшаяся на горизонте, разразилась страшной грозой, и перекаты грома пели вечную память новопреставленному рабу Михаилу". Эта эффектная сцена происходила, по словам Васильчикова, после того, как он уже вернулся из Пятигорска, в тщетных поисках врачей. В рукописи же его статьи было сказано об этом моменте иначе: "Наступила ночь, ливень прекратился". Бартенев поправил: "Ливень не прекращался"****. Но Васильчиков не ошибся, потому что в акте осмотра места дуэли, составленном на следующий день, отмечено, что на месте падения тела Лермонтова "земля была пропитана кровью"*****. Следовательно, ливень, который вспоминают все пятигорцы, уже прекратился - в противном случае почва была бы размыта. Очевидно, как и вспоминал Мартынов, стрелялись под самым ливнем.
* (Литературное наследство, 1952, № 58, с. 490)
** (Нива, 1880, № 20, с. 475)
*** (Кавказский сборник, т. III. Тифлис, 1879, с. 194)
**** (Семенов Л. П. А. И. Васильчиков о дуэли и смерти Лермонтова. - Ученые записки Северо-Осетинского государственного педагогического института им. К. Л. Хетагурова, т. II (XV), вып. 1, 1840, с. 77-84)
***** (Акт от 16 июля 1841 г. об осмотре места дуэли Лермонтова с Мартыновым. - М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. Пенза, 1960, с. 304)
Как же могли это допустить четыре секунданта? "Пушкин Лев Сергеевич, родной брат бессмертного нашего поэта, весьма убит смертию Лермонтова, он был лучший его приятель... - писал Полеводин. - Пушкин уверяет, что эта дуэль никогда бы состояться не могла, если б секунданты были не мальчики, она сделана против всех правил и чести..." Но какие же "мальчики" двадцатишестилетний Трубецкой и двадцатипятилетний Столыпин? Вероятно, Л. Пушкин имел в виду только двадцатитрехлетнего Васильчикова и корнета Глебова, родившегося в 1819 году.
Создается впечатление, что на самом месте поединка, кроме Глебова и Васильчикова, из секундантов никого не оказалось и участники дуэли тут же перегруппировались. Оттого и получилось, что Глебов был секундантом и Мартынова и Лермонтова, так же, как и Васильчиков. Каким образом это могло случиться? Вероятно, Столыпин, Трубецкой и Дорохов, на которого настойчиво указывала Э. А. Шан-Гирей, на какие-нибудь минуты не поспели к месту встречи. Принимая во внимание внезапно поднявшуюся бурю, это вполне объяснимо. Может быть, эту заминку имел в виду Дружинин, когда, говоря о смерти Лермонтова, упомянул о "стечении самых неблагоприятных случайностей". Секунданты поэта не могли предполагать, что противники начнут стреляться под проливным дождем, не дождавшись законных свидетелей, но обстоятельства сложились иначе. Мартынов торопил Лермонтова. Лермонтов должен был принять дуэль при двух секундантах. Он не мог отказать в доверии Глебову.
Дружеские отношения Лермонтова с Глебовым несомненны, хотя, как уже говорилось, сведения о том, что по дороге к месту поединка Лермонтов рассказывал ему сюжет задуманной исторической эпопеи, вызывают сомнения.
Личность этого выдающегося офицера вырисовывается из его последующей, тоже короткой жизни. В 1847 году он был убит во время перестрелки при ауле Салты. "Этот честный храбрец и погиб славно, как подобает герою, - писал о Глебове в своих воспоминаниях генерал- майор В. А. Полторацкий. - Сидя верхом перед батальоном молодцов-ширванцев, Глебов под градом пуль блестящим хладнокровием подавал изумительный пример отваги, пока внезапно не рухнулся с коня на руки до безумия его полюбивших солдат. Со смертью Глебова 1\ав- каз лишился одного из храбрейших своих детищ"*. Несмотря на то что он в течение пяти лет состоял адъютантом - вначале нового командира Отдельного кавказского корпуса Нейдгардта, а затем и главнокомандующего князя Воронцова, - Глебов, как видим, находился в этом роковом для него деле в цепи застрельщиков. Глебов пользовался полным доверием высшего командования, но не принадлежал к числу "штабных" и карьеристов. В 1843 году с ним произошло происшествие, в котором он показал большое мужество и вместе с тем осмотрительность. Он был захвачен неприятелем среди бела дня недалеко от Ставрополя с важными документами, с которыми был командирован в Петербург к военному министру. Лишь через полтора месяца его выкрали подкупленные Нейдгардтом люди. Эта история окружила имя Глебова романтическим ореолом. В 1844 году в Петербурге он был встречен как герой. Но как ни блистал он в гостиных и каким уважением ни пользовался на Кавказе, он никогда никого не посвящал в тягостные подробности своего плена. "Ты знаешь, что покойник не любил рассказывать сие происшествие, - писал в 1847 году Сергей Илларионович Васильчиков брату Александру,- стало быть, оно решительно осталось во мраке неизвестности"**.
* (Исторический вестник, 1893, № 1, с. 35)
** (ЦГИАЛ, ф. 651, оп. 1, № 679, л. 2об)
Глебов умел молчать.
Задумываясь над поведением секундантов в смертельной дуэли Лермонтова, нужно остановиться на личности Монго-Столыпина. Этот персонаж, по отзывам современников бывший воплощением благородства, подвергся в советском лермонтоведении последних лет незаслуженным нареканиям. К сожалению, толчком для "кампании" послужила моя же публикация отрывков из воспоминаний М. Б. Лобанова-Ростовского, который, как мы помним, чрезвычайно пренебрежительно отозвался о А. А. Монго-Столыпине*. Но наши исследователи не учитывают, что у Лобанова были свои причины плохо относиться к Столыпину. Они оба питали глубокое чувство к одной и той же женщине. Однако их личное соперничество не должно заслонять перед нами историю взаимоотношений Лермонтова и Монго, Что же ставят в вину Столыпину?
* (См. выше с. 164, 166)
Снижают значение его перевода на французский язык "Героя нашего времени". Основываются на его парижском письме к сестре, посвященном денежным делам, где он просит у сестры взаймы до получения гонорара за публикацию перевода романа Лермонтова. Смущает легкий тон этого письма*. Но С. И. Недумов забыл, что подобный стиль - знамение времени. Вспомним, как А. П. Кери указывала даже на Пушкина: "Вот еще выражение века: непременно, во что бы то ни стало казаться хуже, чем он был... В этом по пятам за ним следовал и Лев Сергеевич"**. То же наблюдение встречаем в романе "Проделки на Кавказе", вышедшем в Петербурге в 1844 году. Автор пишет о "майоре Льве", то есть о Льве Пушкине: "умный, честный, безукоризненный офицер, у которого страсть - казаться хуже, чем он есть, пренебрегая общим мнением: он основывается на том, что кто умеет ценить людей, тот его поймет"***. Хорошо определил ту же черту Лермонтова А. И. Васильчиков, вспоминая манеру беседы поэта с декабристом М. А. Назимовым: "он напускал на себя la fanfaronade du vice (бахвальство порока - фр.) и тем сердил Назимова"****. Подобный тон не позволяет выражать свои чувства приподнятыми выражениями. Да и кому должен был Монго объяснять, как высоко он ценит прозу Лермонтова? Он доказал свое понимание его романа превосходным переводом, признанным специалистами того времени лучшим во Франции, помещением его в прогрессивном органе печати и свидетельством все для той же печати о неясных причинах смертельной дуэли Лермонтова. Чего же больше?
* (См.: Нед умов С. И. Лермонтовский Пятигорск. Ставрополь, 1974)
** (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х томах, т. 1. М., Художественная литература, 1974, с. 404)
*** (Xамар-Дабаиов Е. Проделки на Кавказе. СПб., 1844, ч II, с. 40)
**** (Висковатов, с. 304)
Все остальные претензии к Столыпину почти смехотворны.
Почему, дескать, в тифлисских письмах к сестре 1840 года он упоминает всех товарищей, кроме Лермонтова? Весьма возможно, что он умышленно не упоминал его фамилии, не считая нужным доверять почте местопребывание, обстоятельства и самочувствие опального поэта. Наконец, нам не известно, как относились к Лермонтову сестры Столыпина.
Невозможно принять также суждение об отношении Монго к дуэли Лермонтова. Почему-то С. И. Недумову видится, что Столыпин считал Лермонтова виновником и дуэли, и собственной смерти. У нас нет таких материалов, но Недумов делает свой вывод на основании ответа Столыпина Мартынову на его вопрос о том, стоит ли просить о замене гражданского суда военным и освобождения с гауптвахты? Тот факт, что Столыпин дал исчерпывающие ответы Мартынову, приводит в негодование почитателей Лермонтова. Но Столыпин был внуком Мордвинова - "русского Катона"; преступник имеет право на защиту и добрые советы, таков закон нравственной и гражданской справедливости. А записку свою Столыпин закончил твердым, не вызывающим разноречивых толкований словом: "Прощай".
У С. И. Недумова был еще один повод подозревать Столыпина в охлаждении к Лермонтову. Это - замечание Павла Вяземского о какой-то размолвке Лермонтова со Столыпиными в последний его приезд в Петербург. Напечатано оно уже в 80-х годах, когда Вяземский выступил со своей мистификацией "Лермонтов и г-жа Омер де Гелль". Но ведь С. И. Недумов сам публикует письмо Столыпина-Монго к П. П. Вяземскому, написанное в связи с браком его овдовевшей сестры с Вяземским. В этом письме ясно вырисовывается, что плохие отношения со Столыпиным были у самого Вяземского. "В письме от 20 ноября 1848 года ко второму мужу своей сестры Марьи Аркадьевны, князю П. П. Вяземскому, - читаем в книге С. И. Недумова, - А. А. Столыпин, высказывая свое восхищение сделаться его родственником, писал: "Я не был бы такого мнения десять лет тому назад, когда мы оба были еще очень молоды и очень безрассудны".
Очевидно, какая-то крупная ссора была между ними при жизни Лермонтова. Это лишает всякой объективности замечание Павла Вяземского о размолвке между Столыпиными и Лермонтовым.
И, наконец, последнее обвинение. Столыпин, мол, не оставил никаких воспоминаний о поэте. Позволю себе ответить за него. Это не является обязанностью каждого родственника великого человека. Вероятно, не было стимула писать мемуары, - кому? куда? в стол? Это не все умеют. Кроме того, личные обстоятельства Монго с началом войны до конца его короткой жизни не способствовали погружению в беспристрастные воспоминания. Столыпин воевал, участвовал в обороне Севастополя, пережил, как и все, потрясающие события окончания войны и конца царствования Николая I, личное горе. А затем он заболел чахоткой, от которой и умер в 1858 году. Какие уж тут мемуары? Впрочем, нам не известно, может быть, у Столыпина и были какие-нибудь записи, но они не дошли до нас. Ведь до сих пор даже не приложено усилий разыскать бумаги сенатора А. И. Халанско- го, бывшего, по свидетельству П. А. Вяземского, при последних неделях жизни и смерти Столыпина во Флоренции*.
* (Ашукина-Зенгер М. О воспоминаниях В. В. Боборыки- на о Лермонтове. - Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 760)
Следует от догадок и соображений переходить к подлинным фактам. В последнюю поездку на Кавказ Лермонтов был неразлучен со Столыпиным. Выехав из Москвы в разные дни, они очень скоро съехались в пути. Вместе обедали у Меринского в Туле. Вместе остановились в Воронеже в гостинице, вместе прибыли в Ставрополь, оба получили назначение на левый фланг, но свернули в Пятигорск, где поселились под одной крышей на общем хозяйстве. Лермонтов выбрал его в свои секунданты на дуэли с Мартыновым, имея уже этот опыт в дуэли с Барантом. Вспомним, что Столыпин тогда сам явился в суд с требованием, чтобы его привлекли к уголовной ответственности за участие в этом поединке. За это был послан на Кавказ для участия в военных экспедициях. В Пятигорске он похоронил Лермонтова: хлопотал об отпевании поэта, заказал Шведе портрет мертвого Лермонтова.
Не нравятся Т. А. Ивановой* и С. И. Недумову эпистолярный стиль, манеры и внешность Монго-Столыпина? А вот Лев Толстой, которому вначале знакомства Монго был неприятен, потом переменил л ром свое мнение и нашел его "славным и интересным малым"**. Все это лишает нас права окружать имя Монго-Столыпина необоснованными подозрениями. Никому не возбраняется анализировать взаимоотношения Лермонтова со Столыпиным или глубже проникать в нравственный мир обоих, но для этого надо ввести в обращение новый обширный материал, каковым покойные исследователи - Т. А. Иванова и С. И. Недумов - не располагали.
* (См. в ее книге "Лермонтов на Кавказе" (М., 1985))
** (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. в 90-та томах, т. 47. М., Гослитиздат, 1937, с. 22)
Другое дело Васильчиков*. Многочисленные отзывы о нем современников показывают его человеком уклончивым и двуличным. Об этом свидетельствует и его двусмысленная статья 1872 года о гибели Лермонтова с ее возмутительным заключением о неизбежности "этого печального исхода".
* (Подробнее см. главу "Тайным враг")
Все, что мы знаем о поведении Лермонтова в дуэли с Мартыновым, находится в резком противоречии с этими словами Васильчикова.
"Когда явились на место, где надобно было драться, Лермонтов, взяв пистолет в руки, повторил торжественно Мартынову, что ему не приходило никогда в голову его обидеть, даже огорчить, что все это была одна шутка, а что ежели Мартынова это обижает, он готов просить у него прощение не токмо тут, но везде, где он только захочет!.. Стреляй! Стреляй! был ответ исступленного Мартынова. Надлежало начинать Лермонтову, он выстрелил на воздух, желая все кончить глупую эту ссору дружелюбно, не так великодушно думал Мартынов, он был довольно бесчеловечен и злобен, чтобы подойти к самому противнику своему, и выстрелил ему a bout pourtant, прямо в сердце. Удар был так силен и верен, что смерть была столь же скоропостижна, как выстрел. Несчастный Лермонтов тотчас испустил дух. Удивительно, что секунданты допустили Мартынова совершить его зверский поступок. Он поступил противу всех правил чести и благородства, и справедливости. Ежели он хотел, чтобы дуэль совершалась, ему следовало сказать Лермонтову: извольте зарядить опять ваш пистолет. Я вам советую хорошенько в меня целиться, ибо я буду стараться вас убить. Так поступил бы благородный храбрый офицер, Мартынов поступил как убийца"*.
* (Каплан Л. А. Я. Булгаков о дуэли и смерти Лермонтова. - Литературное наследство, 1948, № 45-46, с. 710)
Так описывал сцену поединка московский почт-директор А. Я. Булгаков, ссылаясь на письмо В. С. Голицына, полученное в Москве 26 июля. Следовательно, Голицын описывал катастрофу по самым свежим следам, когда она не успела еще обрасти вымышленными подробностями. 1 августа Булгаков написал два письма - П. А. Вяземскому в Петербург и А. И. Тургеневу во Францию, - где повторял тот же рассказ. Н. С. Мартынова он называл "ожесточенным и кровожадным мальчиком", а его отца "не по мудрости, а токмо по имени Соломоном"*. Характеризуя убийцу Лермонтова в дневнике, Булгаков назвал его "сыном покойного Соломона Михайловича Мартынова, известного только потому, что он разбогател от винных откупов".
* (Письмо А. Я. Булгакова к А. И. Тургеневу. - ИРЛИ, ф. 309)
В течение августа в Москву приходили и другие известия о подробностях дуэли, но в основе рассказов москвичей лежала версия В. С. Голицына. 22 августа студент А. А. Елагин писал в уже упоминавшемся письме отцу: "Лермонтов выстрелил в воздух, а Мартынов подошел и убил его. Все говорят, что это убийство, а не дуэль, но я думаю, что за сестру Мартынову нельзя было поступить иначе. Конечно, Лермонтов выстрелил в воздух, но этим он не мог отвратить удара и обезоружить обиженного. В одном можно обвинить Мартынова, зачем он не заставил Лермонтова стрелять. Впрочем, обстоятельства дуэли рассказывают различным образом, и всегда обвиняют Мартынова как убийцу".
Ту же московскую версию о выстреле Лермонтова на воздух повторяет М. Н. Катков: "Лермонтов, чувствуя себя не совсем правым, просил прощения и выстрелил в воздух"*.
* (См. примеч. 46, с. 67)
И не только в Москве была распространена эта версия. Некто Любомирский, описывая дуэль в письме к родственникам, замечал: "за верность подробностей я не ручаюсь, но и теперь еще у нас рассказывают так, как описал я, может быть, впоследствии откроется что-либо достоверное". Что же слышал в Ставрополе Любомирский?
"Мартынов вызвал его на дуэль. Положено стреляться в шести шагах. Лермонтов отговаривал его от дуэли и, прибыв на место, когда должно было ему стрелять первому, снова говорил, что он не предполагал, чтобы эта шутка так оскорбила Мартынова, да и не имел намерения, и потому не хочет стрелять в него. Отвел руку и выстрелил мимо. Но Мартынов выстрелил метко, и Лермонтова не стало"*.
* (Бродский Н. Л. Дуэль и смерть Лермонтова в откликах современников. - Литературный критик, 1939, № 10-11, с. 250-251)
Когда П. К. Мартьянов приехал в 1870 году в Пятигорск, он еще застал подобные же рассказы о смерти Лермонтова. Они расходились в подробностях: все подтверждали, что Лермонтов не хотел стрелять, но многие уверяли, что поэт не успел дать своего выстрела. Эти слухи нам надлежит проверить.
П. Т. Полеводин, петербуржец, находящийся на излечении в Пятигорске, писал 21 июля, то есть через шесть дней после катастрофы:
"Приехав на место, назначенное для дуэли (в двух верстах от города на подошве горы Машука, близ кладбища), Лермонтов сказал, что он удовлетворяет желание Мартынова, но стрелять в него ни в каком случае не будет. Секунданты отмерили для барьера пять шагов, потом от барьера по пяти шагов в сторону, развели их по крайний след, вручили им пистолеты и дали сигнал сходиться. Лермонтов весьма спокойно подошел первый к барьеру, скрестив вниз руки, опустил пистолет и взглядом вызвал Мартынова на выстрел. Мартынов, в душе подлец и трус, зная, что Лермонтов всегда держит свое слово, и радуясь, что не стреляет, прицелился в Лермонтова. В это время Лермонтов бросил на Мартынова такой взгляд презрения, что даже секунданты не могли его выдержать и потупили очи долу (все это сказание секундантов). У Мартынова опустился пистолет. Потом он, собравшись с духом и будучи подстрекаем презрительным взглядом Лермонтова, прицелился - выстрел... Поэта не стало!"*
* (Воспоминания, с. 350)
Этот рассказ показывает, что секундантам необходимо было оправдаться: как они могли допустить такое вопиющее нарушение "всех правил и чести"?
Версия о презрительном взгляде Лермонтова, смутившем даже секундантов, должна была принадлежать Васильчикову. Сохранился рассказ о том, как возмутило его чувство надменного превосходства, с которым, как ему казалось, Лермонтов отказывался целить в Мартынова.
"Когда Лермонтову, хорошему стрелку, был сделан со стороны секунданта намек, что он, конечно, не намерен убивать своего противника, то он и здесь отнесся к нему с высокомерным презрением со словами: "стану я стрелять в такого дурака", не думая, что были сочтены его собственные минуты. Так рассказывал князь Васильчиков об этой несчастной катастрофе, мы записываем его слова, как рассказ свидетеля смерти нашего поэта",- писал в 1881 году В. Стоюнин в некрологе А. И. Васильчикова*.
* (Наблюдатель, 1881, № 1. Перепечатано в кн.: Кн. А. И. Васильчиков. 1818-1881. Биографический Очерк. Составил А. Голубев. СПб., 1882)
Автор записи не смог скрыть злорадства Васильчикова, изобличающего никогда не затухающую обиду этого тайного врага Лермонтова. В "Русском архиве" Васильчиков не только ничего не сказал о презрительном взгляде Лермонтова, но, как нарочно, живописно изобразил совсем другое выражение лица поэта: "... в последний раз я взглянул на него и никогда не забуду того спокойного, почти веселого выражения, которое играло на лице поэта перед дулом пистолета, уже направленного на него".
Но уже в беседах с Висковатовым Васильчиков изменил свои воспоминания: "Вероятно, вид торопливо шедшего и целившего в него Мартынова,- передает Висковатов слова Васильчикова, - вызвал в поэте новое ощущение. Лицо приняло презрительное выражение"*.
* (Висковатов, с. 424-425)
Менялись также рассказы Васильчикова о позе Лермонтова в последние минуты. В "Русском архиве" он писал:
"Лермонтов остался неподвижен и, взведя курок, поднял пистолет дулом вверх, заслоняясь рукой и локтем по всем правилам опытного дуэлиста".
Однако в разговоре с Висковатовым Васильчиков прибавил важную деталь:
"Он, все не трогаясь с места, вытянул руку кверху, по-прежнему кверху же направляя дуло пистолета".
От вытянутой кверху руки до выстрела на воздух - один шаг. Васильчиков как будто намекал на это Висковатову. "Когда я его спросил, - пишет биограф поэта,-отчего же он не печатал о вытянутой руке, свидетельствующее, что Лермонтов показывал явное нежелание стрелять, князь утверждал, что он не хотел подчеркивать этого обстоятельства, но поведение Мартынова снимает с него необходимость щадить его".
Вопрос о выстреле Лермонтова оставался самым важным обвинением против Мартынова. Вторым обвинением являлось нарушение установленной границы. Судя по первым откликам, Мартынов приблизился к Лермонтову, перейдя барьер. В рассказе, предназначенном для "Русского архива", Васильчиков написал (случайно или умышленно?) весьма неопределенно: "Мартынов быстрыми шагами подошел и выстрелил". В наборной рукописи этой статьи вставлено рукой П. И. Бартенева: "к барьеру"*.
* (См. примеч. 89)
Опровержением слухов о нарушении Мартыновым границы и о выстреле Лермонтова на воздух занялось правительство еще в 1841 году. 8 августа А. Я. Булгаков писал А. И. Тургеневу: "Орлов сказывал мне, что дуэль Лермонтова с Мартыновым не так происходила, как я тебе ее описал. Лермонтов на воздух не стрелял, а Мартынов стрелял a la distance requise***.
* (С должного расстояния (фр.))
** (ИРЛИ, ф. 309)
Речь идет о царском приближенном А. Ф. Орлове, оказавшемся в эти дни в Москве. Он отрицал верность пятигорских сведений, опираясь на официальные донесения, полученные 2 августа в Петербурге. Но, вероятно, до III Отделения дошли также и другие сведения об истинной картине происшествия.
Передавая П. А. Вяземскому в уже цитировавшемся письме 8 же августа "поправки" А. Ф. Орлова, Булгаков не скрывал своего недоверия к официальной версии из-за участия в дуэли князя Васильчикова. Он считал, "что вину свалят на убитого... Намедни был я у Алексея Федоровича Орлова, и он дуэль мне совсем уже иначе рассказывал", - добавлял он.
Таким образом, опровержение слухов о преступном характере дуэли исходило от двора.
Что же показывают материалы официального дела о выстреле Лермонтова?
Обратимся к первым показаниям подсудимых.
В подспудной переписке с Мартыновым секунданты втолковывали ему, как он должен отвечать на этот самый опасный пункт допроса: "Придя на барьер, ты напиши, что ждал выстрела Лермонтова"*.
* (Русский архив, 1893, № 8, с. 599. юз)
Оба секунданта дали 17 июля свои показания в соответствии со своим письмом к Мартынову. Но с пера Васильчикова срывается предательская фраза: "Дойдя до барьера, майор Мартынов выстрелил. Поручик Лермонтов упал уже без чувств и не успел дать своего выстрела, из его заряженного пистолета выстрелил я гораздо позже на воздух"*. Последняя фраза в подлинном деле подчеркнута кем-то карандашом. И справедливо: верно или неверно показание Васильчикова, но оно свидетельствует, что пистолет Лермонтова после поединка оказался разряженным. В связи с толками о выстреле Лермонтова на воздух это обстоятельство должно было привлечь пристальное внимание следственной комиссии. Но, как ни странно, заявление Васильчикова не подверглось проверке. Мартынову, Глебову и Васильчикову не был устроен даже перекрестный допрос: когда, при каких обстоятельствах Васильчиков разрядил пистолет убитого? Кто это видел или слышал? Следственная комиссия этот вопрос обошла совсем.
* (ИРЛИ, ф. 524, оп. 1, № 26, л. 47)
Вскоре дело было передано в Пятигорский окружной суд. Городские толки не умолкали. В гражданском суде отнеслись к делу внимательнее. "Не заметили ли вы у Лермонтова пистолета осечки, или он выжидал вами произведенного выстрела, и не было ли употреблено с вашей стороны, или секундантов, намерения к лишению жизни Лермонтова и противных общей вашей цели мер?" - гласит пункт опросного листа.
"Хотя и было положено между нами считать осечку за выстрел, но у его пистолета осечки не было"*,- уклончиво отвечает Мартынов.
* (См. примеч. 66, с. 60)
"Правда, конечно, в этом ответе, ибо он дан без всяких влияний и уговоров, - справедливо замечал еще в дореволюционное время лермонтовед Д.Павлов. - Куда стрелял поэт?.. Значит, он сдержал свое слово и "разрядил пистолет на воздух"*. При этом надо учесть, что Павлову не были знакомы письма современников, опубликованные только в советское время. Но и он усмотрел в ответе Мартынова указание на выстрел Лермонтова в сторону.
* (Павлов Д. М. Суд над участниками лермонтовской дуэли. Б. м. и б. г)
Не были тогда доступны исследователям и все материалы военно-судного дела. Поэтому осталась без должного внимания одна важная подробность.
Как известно, гражданский суд не успел закончить рассмотрение дела о дуэли: его перенесли в Комиссию военного суда, учрежденную в Пятигорске по "высочайшему повелению". Под непрестанным нажимом военного министра комиссия закончила всю процедуру в течение трех дней. Но когда оставалось только послать определение в Тифлис на утверждение командира Отдельного кавказского корпуса Головина, из дела были изъяты вещественные доказательства: пистолеты, из которых стрелялись противники, были заменены другими.
29 сентября в комиссию поступило предписание пятигорского коменданта и окружного начальника Ильяшенкова вернуть пистолеты, находящиеся в суде, так как они взяты были частной управой... по ошибке. Вместо них комендант прислал другую пару, принадлежавшую, по его словам, самому Лермонтову, из которой якобы он стрелялся. Получив такое, неслыханное даже в дореформенных судах, распоряжение, судьи нимало не затруднились: они беспрекословно вернули пистолеты Ильяшенкову и 30 сентября решили "вновьпрепровожденные два пистолета представить обще с сим делом на благорассмотрение высшего начальства и согласно учиненному определению в 29-й день сего сентября дело сие закончить".
Подмену пистолетов Ильяшенков мотивировал будничными, житейскими причинами. Пистолеты, мол, в действительности принадлежали "ротмистру Столыпину". Но никакого заявления Столыпина о возвращении ему оружия в деле нет. Возвращенные комиссией пистолеты 5 октября взял под расписку деловитый Глебов - "для доставления владельцу"*.
* (ИРЛИ, ф. 524, № 21, л. 73-74)
Два этих беспримерных факта - разряженный пистолет Лермонтова и официальная замена пистолетов перед самым окончанием дела - могли бы показаться случайностью. Допустим, что Васильчиков действительно в растерянности разрядил пистолет Лермонтова после его смерти, а нерасторопные чины действительно по ошибке захватили в виде вещественного доказательства не те пистолеты. Но, зная опытность Васильчикова и благоразумие Глебова, трудно предположить, чтобы перед самым следствием они собственными руками приготовили такую улику против себя. Оба они прекрасно знали, что первым делом следствия при всех дуэлях являлось освидетельствование оружия, из которого был убит один из противников. Но на этот раз следственная комиссия пренебрегла этим основным правилом и посмотрела сквозь пальцы на странное заявление Васильчикова. Больше этот вопрос ни в одной инстанции не подымался.
Некоторые читатели, знакомясь с изложенными обстоятельствами в моих прежних работах, приходили к неверному выводу, будто бы пистолет Лермонтова вообще не был заряжен. У нас нет оснований подозревать секундантов в таком преступлении. Васильчиков, очевидно, был вынужден дать свое объяснение только для того, чтобы скрыть, что Мартынов целился в противника, который сам себя обезоружил выстрелом в сторону.
Кем-то искусственно взвинченный в предыдущие дни, Мартынов, видимо, усмотрел в нежелании Лермонтова драться еще одну обиду и, не помня себя, покончил дело преступным образом. Вероятно, это случилось так стремительно, что никто не мог дать себе ясного отчета в том, как это произошло.
Тут надо вспомнить педантичное показание Столыпина-Монго о выстреле Лермонтова на дуэли с Баран- том. "Куда направлен был пистолет Лермонтова при выстреле: в противника ли его, или в сторону, он определить не может, но утверждает, что Лермонтов стрелял, не целясь", - так изложено содержание ответа Столыпина в определении генерал-аудиториата. Подобный же отзыв о смертельной дуэли принадлежит Е. П. Ростопчиной в ее письме к Дюма 1858 года. "Возможно ли, - сказал он (Лермонтов) секундантам, когда они передали ему заряженный пистолет, - чтобы я в него целил?
Целил ли он? Или не целил? Но известно только то, что раздалось два выстрела и что пуля противника смертельно поразила Лермонтова"*. Почему Ростопчина так уверенно говорила о двух выстрелах? Откуда у нее могли быть такие сведения? Вернее всего - от Столыпина, с которым она продолжала встречаться в Петербурге после смерти Лермонтова.
* (Воспоминания, с. 286)
Правила круговой поруки принудили всех секундантов к пожизненному молчанию о происшедшей трагедии. Но отношения их с Мартыновым с самого первого дня следствия были обостренными.
Вспомним подспудную переписку, которая, по словам Мартынова, "способна сама пролить немалый свет на темные стороны этой дуэли"*. Значит, Мартынов признавал, что в дуэли были "темные стороны"!
* (Русский архив, 1885, № 3, с. 462)
Из этой переписки ясно, что Мартынов опасался насмешек собственных секундантов. В ответ на их предложение взять назад свой вызов он, как видно из черновика его показаний, ответил: "Я сказал им, что не могу этого сделать, что мне на другой же день пришлось бы с ним [через платок стреляться] пойти на ножи!" Секундантам пришлось согласиться на свирепые условия дуэли, которые, по отзывам знатоков, дозволялись только в случае нанесения жесточайшего оскорбления. "Я должен же сказать, - писал М. П. Глебов Мартынову,- что уговаривал тебя на условия более легкие, если будет запрос. Теперь покамест не упоминай об условии 3 выстрелов; если же позже будет о том именно запрос, тогда делать нечего: надо будет сказать всю правду".
Эту тайную переписку сын Мартынова, выступивший в 1898 году, тоже считал "узлом всего дела"*.
* (Русское обозрение, 1898, № 1)
Обвинения секундантов раздавались в семействе Мартынова постоянно. "К несчастью, посредниками были слишком молодые, неопытные люди, которые не умели отклонить дуэли", - говорила Я. К. Гроту Е. С. Ржевская. Тот же упрек звучит в пересказе Бетлинга: "Он был в дружеских отношениях с Михаилом Юрьевичем, но в последнее время вышло нечто, вызвавшее крупное объяснение. Приятели таки раздули ссору". Тенденция к обвинению секундантов наметилась у Мартынова в первые же дни после несчастья. "Признаться тебе, твое письмо несколько было нам неприятно,- пишет Глебов Мартынову 17 июля. - Я и Васильчиков не только по обязанности защищаем тебя везде и всем, но и потому, что не видим ничего дурного с твоей стороны в деле Лермонтова..."* По-видимому, Мартынов упрекал в чем-то своих секундантов. На прямой вопрос гражданского суда, "не было ли употреблено с вашей стороны или секундантов намерения к лишению жизни Лермонтова противных общей вашей цели мер", он ответил: "Остальное же все было предоставлено нами секундантам и как их прямая обязанность состояла в наблюдении за ходом дела [и потому и прошу господ следователей отнестись к ним для узнания], то они и могут объяснить, не было ли нами отступлено от принятых правил". Как видим, Мартынов перекладывал часть ответственности на секундантов. Относилось ли это только к самому ходу поединка? Нисколько. Так, когда М. И. Семевский, редактор "Русской старины", обратился к убийце Лермонтова в 1869 году с предложением высказаться в печати о причинах дуэли, Мартынов и тут рекомендовал Семевскому переадресовать свою просьбу А. И. Васильчикову.
* (См. примеч. 114)
После того как Семевский напечатал эту переписку, Васильчиков вынужден был откликнуться на предложение Мартынова статьей 1872 года.
7
Многие биографы Лермонтова не доверяют сведениям о выстреле поэта в воздух и о принесенных им Мартынову извинениях. Эти подробности, говорят они, психологически не вяжутся с обликом поэта. Но не кто иной, как Лермонтов, в предыдущей дуэли с Барантом выстрелил в сторону. А об извинениях поэта перед молодыми людьми, которые обижались на его насмешки, рассказывают самые разные люди. Таков эпизод с молодым князем, свидетелем которого в Москве был Фр. Боденштедт. Лермонтов изводил юношу, но, увидев, что тот обиделся, смягчил свой выпад дружеским поцелуем. Подобным же образом Лермонтов вел себя с Лисаневичем в Пятигорске и с Есаковым в Ставрополе. По-видимому, повзрослевший поэт, зная свои слабости, старался себя умерять и сглаживать неприятное впечатление.
Все очевидцы согласно показывают, что с Мартыновым у Лермонтова, несмотря на карикатуры и эпиграммы, были приятельские отношения. Для всех обида Мартынова была полной неожиданностью. Ее нельзя объяснить ничем другим, как нарочитым взвинчиванием Мартынова кем-то со стороны. При его ничтожном и трусливом характере, этого безмерно самолюбивого и мнительного человека нетрудно было довести до состояния аффекта.
Не более убедительна и ссылка на железные законы дворянской чести, заставившие Мартынова вызвать и стреляться с Лермонтовым. Не говоря уже о том, что Мартынов сам заявил, что насмешки его противника "не касались до чести", самое суждение о дуэльных нравах лермонтовского времени оказывается неверным. Оно основано на глубоко антиисторичном сближении дворянского быта 30-х годов с нравами, описанными А. Куприным в начале нашего столетия.
Правила полковой чести, по которым офицер царской армии не только имел право, но обязан был кончать дело дуэлью в случае обиды, было подтверждено правительственным законом лишь в 1896 году. До тех пор дуэли, запрещенные еще при Петре I, подлежали уголовной ответственности. Естественно, что при Николае I, подчинившем все стороны общественной жизни строгой регламентации, преследования за поединки тоже приняли жестокий характер. Уже одно это придавало офицерским и дворянским дуэлям 30-х и 40-х годов XIX века оттенок конспиративного акта, открывавшего простор для всяческих злоупотреблений. После расцвета дуэльных столкновений среди бесшабашной и бурной офицерской молодежи 10-х и начала 20-х годов наступил спад и в этой области. Дуэльные истории лишились своего героического ореола и превратились скорее в способы замаскированных убийств, чем в классические образцы рыцарских турниров.
Время Лермонтова, вопреки ходячему мнению, было самым "недуэльным". Даже Э. А. Шан-Гирей обмолвилась: "В Пятигорске, где дуэли так редки..." Культа дуэльных встреч не было и в Петербурге. И Лермонтов был одним из самых ярких выразителей новых, трезвых взглядов на выродившийся варварский обычай.
Поединок Печорина с Грушницким изображен пародийно. Драгунский капитан придумал "ловкую штуку": "Я был секундантом на пяти дуэлях, - обращается он к Грушницкому, - и уж знаю, как это устроить. Я все придумал. Пожалуйста, только мне не мешай. Постращать не худо. А зачем подвергать себя опасности, если можно избавиться? .." Доктор Вернер, узнав о плане капитана зарядить пулею только один пистолет Грушницкого, иронически заметил: "Это немножко похоже на убийство, но в военное время, и особенно в азиатской войне, хитрости позволяются..."
В этом изображении реальной оборотной стороны дуэлей Лермонтов не был одинок. В "Большом свете", вышедшем из печати даже раньше "Княжны Мери", В. А. Соллогуб вкладывает в уста Сафьева сентенции, сходные с откровениями лермонтовского драгунского капитана. При этом речь идет уже о дуэли не в далеком Пятигорске, а в самом Петербурге. Сафьев цинично обращается к Леонину: "Слушайся только на месте моих советов. Я тебя так поставлю, что тебя пуля не тронет. По-моему, дуэль ужасная глупость; только если уж драться, так все-таки лучше убить своего противника, чем быть убитым". Развязка дуэли тоже развенчивает рыцарскую сторону этого обычая. Дуэль между Леониным и Щетининым не состоялась по очень простой причине: узнав про вызов Леонина, графиня Воротынская сообщила об этом бригадному генералу. Леонин был выслан на Кавказ. Знаменательно, что в следующих изданиях "Большого света" тирада Сафьева была изменена Соллогубом. Автор сохранил черты скептицизма у своего героя, но убрал намек на возможные злоупотребления при дуэльных встречах*.
* ("По-моему, - небрежно отвечал Сафьев, - всякая дуэль - ужасная глупость, во-первых, потому, что нег ни одного человека, который бы стрелялся с отменным удовольствием: обыкновенно оба противника ожидают с нетерпением, чтобы один из них первый струсил; а потом, к чему это ведет? Убью я своего противника - не стоит он таких хлопот. Меня убьют - я же в дураках. И к тому же, извольте видеть, я слишком презираю людей, чтоб с ними стреляться" (Сочинения В. А. Соллогуба, т. I. СПб., 1855, с. 137))
Описание дуэлей у Лермонтова и Соллогуба в 1840 году было подсказано спецификой настроений молодежи военно-дворянской фронды именно в эти переходные годы. Так, в 1841 году Лермонтов "с неподражаемым юмором" рассказывал в Москве, как "Левицкий дурачил Иваненко" на петербургском поединке. По наблюдению Ю. Ф. Самарина, "дуэль напоминала некоторые черты дуэли "Героя нашего времени"*.
* (Самарин Ю. Ф. Соч., т. XII. М" 1911, с. 57)
Под влиянием новых веяний А. И. Васильчиков тоже поучал товарищей-"бурсаков" в 1839 году, что "дуэли не должны быть так превозносимы, а некоторым образом постыдны".
Ксаверий Браницкий, офицер императорской гвардии, с которого на пирушке сорвали эполеты, ограничился тем, что перевелся на Кавказ. В конце прошлого века и в начале нынешнего подобная ситуация была бы в офицерской среде невероятна.
Сергей Долгорукий, в присутствии которого будущий зять Мартынова Лев Гагарин публично оскорбил в театре его даму, графиню А. К. Воронцову-Дашкову, "хотя и слышал все от слова до слова, оставался неподвижен" (Лобанов).
Когда рыцарским защитником Воронцовой явился Лобанов, он не смог драться на дуэли с Львом Гагариным, оказавшимся под защитой III Отделения.
Вмешательство Бенкендорфа в историю Лобанова проливает свет на обе петербургские дуэли - Пушкина с Дантесом и Лермонтова с Барантом.
Кажется, больше шуму, чем история травли Пушкина, не производило ни одно петербургское великосветское происшествие. За перипетиями афишированного ухаживания Дантеса за Натальей Николаевной следили десятки глаз. Обстоятельства его женитьбы обсуждались во всех гостиных, вплоть до покоев Аничкова дворца. Поведение Пушкина, доведенного до исступления, было у всех на глазах. Но царь, как справедливо указывают последние исследователи, предпочитал стоять в стороне, молча наблюдать и терпеливо ожидать роковой развязки.
Эта система поведения повторилась и в Пятигорске. По крайней мере, кадровый кавказский офицер Каченовский передавал, что в армии к поединку Лермонтова с Мартыновым всегда относились с подозрением. "Как могла состояться роковая дуэль?" - задавал Каченовский "недоуменный" вопрос от имени кавказского офицерства и утверждал, что "пятигорский комендант Ильяшенков, плац-адъютант Унтилов и командир Горского казачьего полка Мезенцев"* знали о вызове Мартынова еще до поединка.
* (Московские ведомости, 1891, 2 мая)
Каченовский говорил об этом как о широко известном факте. То же самое утверждал П. А. Висковатов, не называя, впрочем, имен, а просто указывая на пятигорские "власти".
"В обществе, - пишет, в свою очередь, И. П. Забелла, - смерть Лермонтова отозвалась сильным негодованием на начальство, так сурово и небрежно относившееся к поэту и томившее его из-за пустяков на Кавказе, а на Мартынова сыпались общие проклятия"*.
* (См. примеч. 33)
Говоря о "начальстве", мемуарист, конечно, имел в виду Николая I, самодержавно распоряжавшегося судьбами своих подданных.
В 70-х годах на страницах русской печати стали появляться обывательские рассказы о "бретерстве" Лермонтова, о его невыносимом характере и прочих обстоятельствах, послуживших причиной его неизбежной гибели.
Но реальная действительность лермонтовского времени показывает, что потомки получили уже искаженный образ поэта. Вместе с тем, украшенный историческими иллюзиями военной касты царской армии, образ Мартынова был положен в основу легенды о рядовой офицерской дуэли, случайно погубившей Лермонтова.
Весь приведенный выше материал опровергает эту ложную концепцию.
8
В эти годы с напряженным вниманием относился к личности Лермонтова Достоевский. След этого интереса остался во многих его произведениях, но настоящее художественное исследование психологических причин ссоры поэта с Мартыновым и портрет последнего мы найдем в главе "Поединок" романа "Бесы".
В 1861 году в июльской книге журнала "Время" в статье "Книжность и грамотность" Достоевский писал, останавливаясь на "Герое нашего времени": "От злобы и как будто на смех Печорин бросается в дикую, странную деятельность, которая приводит его к глупой, смешной, ненужной смерти". Между тем в романе Лермонтова смерть Печорина вообще не описана, о ней сообщено од- ной-единственной фразой: "Недавно я узнал, что Печорин, возвращаясь из Персии, умер". "Здесь за судьбой Печорина стоит и заменяет ее судьба Лермонтова", - раскрывает смысл этой известной обмолвки Достоевского В. Б. Шкловский*.
* (Шкловский В. Б. За и против. Заметки о Достоевском. М" 1957, с. 232)
И верно: за полгода до разбора "Героя нашего времени" во введении к "Ряду статей о русской литературе" Достоевский уделил место поэтическому очерку жизненного и творческого пути Лермонтова. Заканчивалась эта замечательная лирическая проза интерпретацией смерти Лермонтова, перекликающейся с оценкой смерти Печорина: "Наконец, ему наскучило с нами; он нигде и ни с кем не мог ужиться; он проклял нас и осмеял" "насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом" и улетел от нас.
И над вершинами Кавказа Изгнанник рая пролетал.
Мы долго следили за ним, но, наконец, он где-то погиб - бесцельно, капризно и даже смешно. Но мы не смеялись".
Событие, полное трагизма, с житейской точки зрения смешно. Почему? Глупая причина - мальчишеская ссора. Странное поведение Лермонтова на дуэли, об этом доходили слухи.
В 1862 году в газете "Век" были напечатаны документы военно-судного дела о дуэли Лермонтова с Баран- том. Как мы помним, и там фигурировал выстрел в сторону. Это повлекло за собой продолжение конфликта с Барантом. Следы этой дуэли мы встречаем в "Записках из подполья", вышедших из печати в 1864 году. Герой, в котором исследователи находят отзвуки Печорина, вызвал на дуэль одного из своих антагонистов - Ферфичкина, но вскоре заявляет всей компании своих мучителей:
"-Зверков, я прошу у вас прощения... Ферфичкин, и у вас тоже, у всех, у всех, я обидел всех!
Ага! дуэль-то не свой брат! - ядовито прошипел Ферфичкин.
Меня больно резануло по сердцу.
Нет, я не дуэли боюсь, Ферфичкин! Я готов с вами же завтра драться, уже после примирения... Я хочу доказать вам, что я не боюсь дуэли. Вы будете стрелять первый, а я выстрелю на воздух.
Сам себя тешит, - заметил Симонов.
Просто сбрендил! - отозвался Трудолюбов"*.
* (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 5. Л., Наука, 1973, с. 147)
В 1867 году было опубликовано военно-судное дело о смертельной дуэли Лермонтова. Так же, как и предыдущее, оно было перепечатано во многих газетах и не могло не воскресить всех суждений о кончине Лермонтова, основанных на воспоминаниях и рассказах современников. Нет сомнения, что шли разговоры о выстреле Лермонтова.
В 1868 году во время работы над "Идиотом" у Достоевского возникала идея повести "Юродивый (Присяжный поверенный)", где была намечена дуэль, в которой герой "не выстрелил и одумался на шаге расстояния. После дуэли примирение. Большой спор, зачем не выстрелил с шагу расстояния".
В первых набросках к "Бесам" 1869 года под названиями "Картузов", "Зависть" и в наброске без названия обязательно фигурирует дуэль и выстрел героя в воздух. В первой заметке: "Пересочинить Картузова. Графа выгнали (скандальная дуэль)". В "Картузове": "Переговоры о дуэли. Граф соглашается, но Картузов ставит условием, чтобы Граф стрелял первый, а что Картузов стрелять не будет. На это Граф смеется, удивляется и сердится". В следующем варианте под названием "Зависть"- дуэль, где Картузов, вызвавший графа, не стреляет ("или лучше не вызывает"). А вот другой персонаж в этих же набросках: "Учитель, первоначально оставивший пощечину без ответа, потом вызывает обидчика на дуэль, выдерживает выстрел, но сам не стреляет"*.
* (Там же, т. 9, с. 114, 123; т. 11, с. 33, 50, 59)
Свое полное воплощение этот мотив находит в главе "Поединок". Однако и после "Бесов" мотив дуэли без выстрела не оставляет творческое сознание Достоевского. В "Братьях Карамазовых" он разрабатывается в форме сказа старца Зосимы о своей молодости.
Его внезапное обращение к богу произошло в ночь перед дуэлью, на которую он сам вызвал своего соперника. Приехав на место поединка, он выдержал выстрел противника, но швырнул свой пистолет в лес, не выстрелив. Рассерженный противник восклицает: "...если вы не хотели драться, к чему же беспокоили?" Секундант возмущен: "Как это срамить полк, на барьере стоя, прощения просить?" На объяснение новообращенного о пережитом им духовном перевороте, заставляющем его публично повиниться, секундант кричит: "Да не на барьере же". А в слова Зосимы вложено критическое суждение Достоевского о дуэлях: "... до того безобразно, говорю, мы сами себя в свете устроили, что... только после того, как я выдержал их выстрел в двенадцати шагах, слова мои могут что-нибудь теперь для них значить, а если бы до выстрела, как прибыли сюда, то сказали бы просто: трус, пистолета испугался..."*
* (Там же, т. 14, с. 276 и далее)
Тут скрывалась одна из важнейших причин круговой поруки о молчании всех участников дуэли. К защите собственных интересов прибавлялась защита памяти Лермонтова от нареканий. До нас дошло одно письмо представителя "грибоедовской Москвы", весьма враждебно относившегося к Лермонтову с давних пор. Сенатор Кикин, узнав от Мартыновых о случившемся, писал дочери 2 августа 1841 года: "Он был трус. Хотел и тут отделаться, как с Барантом прежде, сказал, что у него руки не поднимаются, выстрелил вверх, и тогда они с Барантом поцеловались и напились шампанским. Сделал то же и с Мартыновым, но этот, несмотря на то, убил его"*. В злобном выступлении сына Мартынова заключены выпады, сходные с этими перевранными деталями: "Дуэль Лермонтова с Барантом сделала как дуэлистов, так и секундантов их посмешищем всего Петербурга"**. Но даже от старых сенаторов и других очевидцев исходили и другие оценки поведения Лермонтова. Такие, как записи "офицер поступил даже благородно...".
* (Русская старина, 1896, № 2, с. 316)
** (См. примеч. 115)
Общая тема и для Баранта и для Мартынова была обида за то, что противник пощадил их, им казалось это пренебрежением. Все это раскрыто с психологической глубиной Достоевским в его "Поединке".
В каждом новом сюжетном повороте этой главы мы находим отражение дуэли Лермонтова с Мартыновым.
Мотив четырехлетней семейной обиды является центральным. Семейный инцидент Мартыновых с Лермонтовым передавали по-разному. Одни говорили, что письма были ему поручены в Петербурге в последний приезд туда Лермонтова, другие знали, что дело было в 1837 году. Четыре года затаенной обиды - это мотив, органичный для Достоевского. Так же, как и Мартынов, Гаганов "не имел прямого предлога к вызову. В тайных же побуждениях своих, то есть просто в болезненной ненависти к Ставрогину за фамильное оскорбление четыре года назад, он почему-то совестился сознаться". Такова была самая живучая версия о причинах вызова Мартынова, не имеющая, как было показано выше, оснований.
Рассказам об удивившей всех настойчивости и поспешности Мартынова соответствует "неукротимое желание Артемия Павловича драться во что бы ни стало". Мартынов и слышать не хотел о примирении с Лермонтовым. В соответствии с этим и Гаганов отказывался от этого: "Все извинения и неслыханные уступки Николая Всеволодовича были тотчас же с первого слова и с необыкновенным азартом отвергнуты". Гаганов "положил про себя, что тот бесстыдный трус; понять не мог, как тот мог снести пощечину от Шатова" - отголосок кривотолков о дуэли с Барантом.
Условия дуэли, предложенные Ставрогиным, были приняты секундантами. "Сделана была только одна прибавка, впрочем очень жестокая, именно: если с первых выстрелов не произойдет ничего решительного, то сходиться в третий. Кириллов нахмурился, поторговался насчет третьего раза, но, не выторговав ничего, согласился с тем, однако ж, что "три раза можно, а четыре никак нельзя".
Фигурируют также у Достоевского щегольской экипаж Гаганова и верховые лошади противной стороны. Это соответствует беговым дрожкам, принадлежащим Мартынову. Согласно его показаниям, в них ехал Глебов, а Лермонтов и Васильчиков - верхом. Мотив этот был обработан Достоевским: "Гаганов с Маврикием Николаевичем прибыли на место в щегольском экипаже парой... Почти в ту же минуту явились Николай Всеволодович с Кирилловым, но не в экипаже, а верхами... Мнительный, быстро и глубоко оскорблявшийся Гаганов почел прибытие верховых за новое себе оскорбление, в том смысле, что враги слишком, стало быть, надеялись на успех, коли не предполагали даже нужды в экипаже на случай отвоза раненого. Он вышел из своего шарабана весь желтый от злости..."
Не пропустил Достоевский и факт отставки Мартынова еще до поединка, который многие не учитывали, продолжая считать его кавалергардом. Вспомним, как Е. С. Ржевская уверяла Грота, что Мартынов вынужден был выйти в отставку из-за дуэли с Лермонтовым. Это было обыграно Достоевским. Причиной отставки он выставил не дуэль, за которую Мартынов был судим, а "столь долго и мучительно преследовавшую его мысль о сраме фамилии, после обиды, нанесенной отцу его в клубе четыре года тому назад Николаем Ставрогиным".
Предвосхищая образ князя Сокольского из "Подростка", Достоевский пишет о Гаганове: "Он принадлежал к тем странным, но еще уцелевшим на Руси дворянам, которые чрезвычайно дорожат древностью и чистотой своего дворянского рода и слишком серьезно этим интересуются... Еще в детстве его, в той специальной военной школе для более знатных и богатых воспитанников, в которой он имел честь начать и кончить свое образование, укоренились в нем некоторые поэтические воззрения: ему понравились замки, средневековая жизнь, вся оперная часть ее, рыцарство". Это тоже было навеяно рассказами защитников Мартынова, рисующих его как человека твердых правил, рыцарски честного, глубоко уязвленного за свою сестру. Все эта бутафория связывалась, по Достоевскому, с политическим консерватизмом Гаганова: с появлением манифеста 19 февраля об освобождении крестьян он почувствовал себя "как бы лично обиженным. Это было что-то бессознательное, вроде какого-то чувства, но тем сильнее, чем безотчет- нее".
В описании поединка использованы все варианты, представленные рассказами современников о выстреле Лермонтова на последней дуэли. Получается как бы социально-философский диалог:
"Мысль, что нельзя мириться на барьере, есть предрассудок, годный для французов" (Кириллов). "Если противник заранее объявляет, что стрелять будет вверх, то поединок действительно продолжаться не может... по причинам деликатным и... ясным" (Маврикий Николаевич). "Я опять подтверждаю мое предложение представить всевозможные извинения" (Ставрогин). "Такие уступки только усиление обиды! Он не находит возможным от меня обидеться!.. Он позора не находит уйти от меня с барьера!" (Гаганов). "Не хочу более никого убивать" (Ставрогин).
Так же как в дуэли Лермонтова с Барантом, Гаганов делает первый промах, а Ставрогин "поднял пистолет, но как-то очень высоко и выстрелил совсем почти не целясь". "Это опять обида! Он хочет сделать дуэль невозможною!" "Для чего он щадит меня? - бесновался Гаганов, не слушая. - Я презираю его пощаду... Я плюю... Я..." В этих возгласах соединились оба противника Лермонтова - и Барант и Мартынов. Спор о том, куда стрелял Лермонтов, отразился и в "Бесах": "Про эти выстрелы вверх можно было бы и поспорить: Николай Всеволодович мог прямо утверждать, что он стреляет как следует, если бы сам не сознался в умышленном промахе. Он наводил пистолет не прямо в небо или в дерево, а все-таки как бы метил в противника, хотя, впрочем, брал на аршин поверх его шляпы. В этот второй раз прицел был даже еще ниже, еще правдоподобнее; но уже Гаганова нельзя было разуверить".
Это напоминает показания Столыпина о дуэли с Барантом, да и разноречивые рассказы о направлении пистолета Лермонтова на последней дуэли - вниз, дулом вверх, в сторону. "Ставрогин стоял с пистолетом, опущенным вниз, и неподвижно ожидал его выстрела" (вариант отголоска Полеводина).
Не забыл Достоевский и тот рассказ, в котором утверждали, что Столыпин крикнул: "Стреляйте! Или я вас разведу!" "Слишком долго, слишком долго прицел!- стремительно прокричал Кириллов. - Стреляйте! стре-ляй-те!" "Стреляйте, не держите противника! - прокричал в чрезвычайном волнении Маврикий Николаевич".
Финал поединка Ставрогина с Гагановым, конечно, разнится от трагического конца лермонтовской дуэли, но нравственный поединок изображен совершенно точно. Ставрогин "вздрогнул, поглядел на Гаганова, отвернулся и уже безо всякой на этот раз деликатности выстрелил в сторону, в рощу. Дуэль кончилась. Гаганов стоял как придавленный". Васильчиков утверждал, что Мартынов был сражен презрением Лермонтова. "Стану я стрелять в такого дурака!" Эти слова были будто бы сказаны Лермонтовым своему секунданту, когда тот подавал ему пистолет. В "Поединке" мы находим почти буквальное повторение этих слов, обращенное Ставрогиным к своему секунданту:
"- Я не хотел обидеть этого... дурака, а обидел опять, - проговорил он тихо.
- Да, вы обидели опять, - отрубил Кириллов, - и притом он не дурак".
В "Поединке" центральная фигура - Гаганов, а не Ставрогин. Это единственная глава, где ему дана развернутая характеристика. Вот почему трудно согласиться с комментарием к этой главе в академическом собрании сочинений, опирающимся на версию, выдвинутую Л. Г. Гофманом в 1926 году. Согласно этим наблюдениям, Достоевский только "художественно оформил" историю другой знаменитой дуэли между будущим декабристом М. С. Луниным и будущим же шефом жандармов А. Ф. Орловым. Она была описана в воспоминаниях, напечатанных в журнале как раз в ту пору, когда Достоевский работал над своим романом. Бесспорно, писатель много почерпнул из этой публикации для проведения параллели между Луниным, Лермонтовым и Ставрогиным. Некоторые детали дуэли в "Поединке" перекликаются с описанием дуэли Лунина, но психологические мотивировки служат толкованием конфликта Мартынова с Лермонтовым. Неслучайно к этой главе относится одна из важнейших реплик Ставрогина в ответ на восклицание Даши: "Да сохранит вас бог от вашего демона". - "О, какой это демон! Это просто маленький, гаденький и золотушный бесенок из неудавшихся". Тут мы подошли к большой историко-литературной проблеме о Достоевском и Лер монтове, которая выходит за рамки темы настоящей книги.
Возвращаясь к истории гибели Лермонтова, хочется подвести итог всему сказанному выше. Растет уверенность, что первоначальные сведения отражали истинную картину катастрофы: выстрел Лермонтова в воздух, аффект Мартынова, и как следствие этого - убийство. Отвергнута версия о распечатанном пакете как о причине дуэли. Но без всякого ответа остался вопрос о трех выстрелах. Что заставило Мартынова выставить такое жестокое условие и почему секунданты его приняли - удовлетворительного объяснения этому мы пока не находим.
Обращает на себя внимание, что все подозрения об участии властей в катастрофе исходили от людей, близко стоявших к высшей и местной администрации. Их непосредственная реакция на известие о смертельной дуэли поэта чрезвычайно показательна. Вспомним: в Петербурге бывший министр духовного просвещения, доверенное лицо Николая I князь А. Н. Голицын напоминает П. А. Вяземскому об изменнической дуэли екатерининского времени. В Москве - полицмейстер рассказывает о вмешательстве Кушинникова в показания подсудимых. В Париже А. И. Тургенев беседует с многолетним секретарем французского посольства о сходной судьбе Лунина и Лермонтова. На Кавказе боевые офицеры, хорошо знавшие свое начальство, подозревали его в попустительстве этой дуэли. Не говорил ли Дорохов Дружинину о том же?
Все эти намеки и прямые обвинения современников сами по себе имеют историческое значение. Пушкин, например, говоря по другому поводу о той же изменнической дуэли при дворе Екатерины II, считал необходимым указать на молву, обвинявшую Потемкина, хотя документальных доказательств этого преступления не имел. Но безусловным доказательством настороженного отношения царя Николая I и III Отделения к убийце Лермонтова мы располагаем. Вспомним приведенную уже выше резолюцию шефа жандармов на прошение о выезде Мартынова в Германию для лечения: "Невозможно. Всюду кроме заграницу, даже на Кавказ. Могу представить) г(осударю)". Так ответил А. Ф. Орлов на ходатайство министра внутренних дел Л. Перовского 27 ноября 1844 года. Чего они боялись? Излишней болтливости Мартынова? Все эти не до конца проясненные данные призывают биографов Лермонтова к продолжению поисков. Пусть подчас они сопровождаются необоснованными выступлениями неподготовленных энтузиастов, это не отменяет проблемы. И напрасно многие современные ученые рассматривают все попытки исследователей дознаться до истины неправомерно создаваемой мелодрамой. Темные обстоятельства гибели великого поэта - это не мелодрама, это история.
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://m-y-lermontov.ru/ "M-Y-Lermontov.ru: Михаил Юрьевич Лермонтов"