
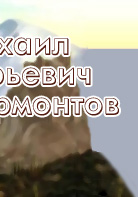
Библиотека
Энциклопедия
Ссылки
О проекте

БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ
Расстановка ударений: БИБЛЕ`ЙСКИЕ МОТИ`ВЫ
БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ у Лермонтова. Религиозно-богоборческие переживания Л. отличаются большой непосредственностью и внутр. независимостью от культово-догматич. традиций; это естественно для романтика-бунтаря, склонного презирать "суеверное" послушание толпы и разговаривать с "высшей силой" на равных, отстаивая свою личную исключительность и достоинство. Однако такого рода переживания, как и вся поэтич. "метафизика" Л., многообразно соотнесены с миром библейско-христианско-церк. представлений.
Жизненно-поэтич. мышление Л., с детства соприкасавшегося с религ.-молитвенным обиходом в доме бабушки, было приобщено к кругу образов "Писания" и христ. культа даже в большей мере, чем умозрение мн. др. крупных фигур романтизма. Так, Л. чужд внебиблейский пантеизм иенских романтиков или П. Б. Шелли, увлечение магич. стихией у первых и интерес к антич. мифу у второго (напр., образ Прометея). Его внутр. жизнь протекает как бы в присутствии и перед взором личного бога Библии, к-рого поэт именует, в соответствии с кн. Бытия, создателем мира ("Кладбище", 1830), "творцом природы" (из ранних ред. "Демона"; в одной из них вспоминается "святой великий час, / Когда от мрака отделился свет" - ср. Быт 1. 3-4) и на к-рого при случае возлагает ответственность за несовершенства миропорядка и надломы в собств. участи. Бог представляется ему по-библейски "всесильным" - это тот, кто может, но не хочет ответить благословляющим "да" на бурные притязания поэта, хотя в иных случаях это всемогущество промыслителя для Л. как бы ограничено соприсутствием демонич. мирового начала.
Короче всего "кредо" Л. выражено в юношеской драме "Испанцы": "... верь, что есть на небе бог - и только! Я сам не верю больше этого!" (V, 609). И действительно, Л. непрестанно сомневается в прочих существ, принципах библ. веры: в благости провидения ("Бог знал заране всё: зачем же он не удержал судьбы?.. / Он не хотел!",- "Испанцы"), в милосердии божием (слова Демона: "...Ждет правый суд: простить он может, хоть осудит"), в загробном существовании (стих. "Слова разлуки повторяя", 1832; финал драмы "Menschen und Leidenschaften"),- то прибегая к яростным сарказмам, то впадая в тон усталой иронии. Но какова бы ни была дерзость его сомневающейся и отрицающей мысли, ценностный мир Л. в значит, мере организован вокруг остро прочувствованной библ. символики с ее антитезами райского сада и адской бездны, блаженства и проклятия, невинности и грехопадения.
Тексты Л. обнаруживают следы внимат. чтения библ. книг обоих заветов. Причем у Л. сравнительно немногочисленны цитаты или аллюзии, к-рыми автор пользуется просто как поговорками [напр., в "Княгине Лиговской" и в "Герое...", где таким образом брошены иронич. блики на описания светского быта: души старых кокеток "подобны выкрашенным гробам притчи" (Матф 23. 27) и т. п.]. В большинстве же случаев Л. глубоко проникает в дух названных источников и напряженно переосмысливает те или иные эпизоды.
Интерес Л. к миру Ветхого завета роднит его с Байроном (Л. Гроссман). Грандиозная мистерия книги Бытия, сказания о "праотцах", царях и пророках как некие основополагающие образцы жизн. драматизма, сосредоточенность на нар. судьбе и нар. истории, тон прямодушной ответств. серьезности ("стиль библейский и наивный", по лермонт. определению из письма К. Ф. Опочннину, 1840), ориентальный колорит - все это в качестве противовеса условно-антич. началу классицизма импонировало европ. романтикам и рус. младшим "архаистам" (в т. ч. А. С. Грибоедову, В. К. Кюхельбекеру и др.), ценившим "псалмопевческую" традицию М. В. Ломоносова и Г. Р. Державина. Обращение Л. к эпизодам библ. сказаний типологически находится внутри этой тенденции, однако можно выделить ветхозаветные темы, вызывавшие у него не столько лит. и культурно-эстетический, сколько лично-психол. отклик.
Во-первых, это тема чудесной сверхчеловеческой мощи. Поэт у Л. сопоставляется по этой линии не только с богодухновенным пророком, но с самим Творцом. Строка: "Твой стих, как божий дух, носился над толпою" ("Поэт") отсылает к картине сотворения мира: "Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною; и Дух Божий носился над водою" (Быт 1. 2); иначе говоря, поэт призван влиять на нар. толпу подобно тому, как творч. повеления бога благоустраивают первозданный хаос. Почти столь же властная сила исходит от демонической и потому в чем-то богоподобной личности: глава нар. бунта Вадим наделен сверхчеловеческим могуществом вождя, толпа расступается перед ним, как "некогда море, тронутое жезлом Моисея" (ср. Исх 14. 16, 21). Тому же чудотворному Моисееву жезлу, высекающему воду из скалы, уподоблено поэтич. вдохновение, способное преобразить даже "отвратительный предмет"; этим величественным библ. сравнением Л. неожиданно завершает шутливое и не вполне пристойное послание "Расписку просишь ты, гусар" [здесь Л., правда, смешал, м. б. сознательно, фигуру Моисея (Числа 20.8-11) с "пастырем Аароном" и его процветшим жезлом (Числа 17.8)]. Несмотря на простоту и сдержанность лермонт. "Пророка", стилистически как бы изъятого из круга библейских ассоциаций, в этом стих. тоже присутствует сближение с одной из самых могучих ветхозаветных фигур, издавна пленявших рус. нар. воображение. Строки: "И вот в пустыне я живу, / Как птицы, даром божьей пищи; / Завет предвечного храня, / Мне тварь покорна там земная..." - побуждают вспомнить не только о еванг. "птицах небесных", но и о воронах, по повелению свыше кормивших в пустыне пророка Илию (3 Цар 17. 2-6).
Во-вторых, это тема "метафизич." тревоги и необъяснимых душевных терзаний. Библ. источником для Л. служит эпизод из 1-й кн. Царств (16), где повествуется о "злом духе от Господа", насланном за грехи на Саула, и о юном Давиде, разгонявшем игрой на арфе мрачную меланхолию царя. Л. приближает переложение "Еврейской мелодии" Дж. Байрона к библ. повествованию: у англ. поэта нет упоминания о царств. сане лирич. персонажа, у Л.- "Как мой венец, мне тягостны веселья звуки" ("Еврейская мелодия", 1836). К этому же эпизоду Л. возвращается в поэме "Сашка" (46-я строфа), окружая его сетью многозначит. метафор. На одном полюсе - "жадный червь", терзающий душу поэта, как некогда он терзал душу Саула (ср. печаль Демона, что "ластится, как змей"; ср. также грешников в геенне, "где червь их не умирает и огонь не угасает", Марк 9. 44, 46); на другом - арфа Давида, ангелич. начало муз. гармонии, дающее исход слезам и надеждам и изгоняющее злобного духа, подобно крестному знамению. Видимо, "приставленного" к Саулу "злого духа" Л. мысленно сопоставлял сначала со своим "личным" демоном (ср. юношеское стих. "Мой демон", 1830-31), а затем, по мере героизации этого демона, - уже с его собств. необъяснимыми муками, источником к-рых теперь оказывается жестокая воля всевышнего.
Наконец, это тема скоротечности и незаметности скупо отмеренной человеку жизни перед лицом вечного бытия. В центральной поэтич. медитации раннего периода ("1831-го июня 11 дня") Л. перелагает слова псалма: "Немного долголетней человек цветка..." (ср.: "Дни человека как трава; как цвет полевой, так он цветет" - Пс 102. 15-16); но в отличие от псалмопевца, ищет выход из этой тесной ограниченности земного существования не в сверхвременном благополучии, обещанном роду праведников ("хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их", там же, 18), а в высвобождении души из телесной оболочки и в творч. бессмертии: "Пережить одна / Душа лишь колыбель свою должна. / Так и ее созданья". В том же духе эпиграф к поэме "Мцыри" ("Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю") предлагает символич. переосмысление рассказа о сыне царя Саула, юном воине Ионафане, к-рый нарушил царское заклятие - запрет прикасаться к пище до окончания битвы и был приговорен к смерти (1 Цар 14.24, 43-44). Герой лермонт. поэмы - тоже в своем роде нарушитель запрета, обреченный смерти за невоздержную любовь к жизни и свободе. Но вместо оправдат. интонации Ионафана: "Я отведал... немного меду; и вот, я должен умереть" (там же, 43),- у Л. слышится горький упрек: "мало", "так мало" меда.
Из новозаветных книг в творчестве Л. наиболее заметный след оставил Апокалипсис, а именно два мотива, обросшие апокрифами и издавна питавшие нар. воображение. Во-первых, у Л. встречается образ занебесной "книги жизни", где записаны судьбы народов и личные жребии живых и мертвых,- перешедший в Апокалипсис и в христ. молитвословие из ветхозаветных "пророческих" книг (ср. Иез 2. 9-10; Откр 10. 1-2, 9; и др.) и ассоциированный там с темой божьего суда: "Судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими" (Откр 20.12). В стих. "Смерть" ("Ласкаемый цветущими мечтами", 1830-31) перед героем "... в пространстве бесконечном / С великим шумом развернулась книга", и он читает в ней свое осуждение, свой приговор - в адских мучениях духа наблюдать за разложением собств. тела,- воспринимаемый, впрочем, не как воздаяние "сообразно с делами", а как непостижимое проклятие (в "Смерти поэта" Л., однако, сочетает в духе Апокалипсиса идею божеств. предвидения "мыслей и дел" с идеей справедливого воздаяния).
Во-вторых, небесное сражение архангела Михаила и его ангельского воинства с сатаной и падшими ангелами (Откр 12. 7-9),"битва незабвенная" на небесах (5-я ред. "Демона"; стих. "Бой", 1832; ср. также во 2-й ред. поэмы: "Когда блистающий Сион / Оставил с гордым сатаною") и заключение сатаны и его адептов в бездну (Откр 20. 1-3; ср. стих. "Отрывок", 1830, где осужденные люди, подобно демонам, "окованы над бездной тьмы", или в "Демоне": "Взвился из бездны адский дух") - все это составляет подразумеваемый "пролог на небесах" к сюжету "Демона", особенно первых вариантов поэмы, еще близких к мистерии и не обретших локального "земного" колорита "восточной повести". Сопоставление Демона с молнией ("Блистал, как молнии струя" и особенно в 5 ред. - более сниженно и катастрофично: "По следу крыл его тащилась / Багровой молнии струя") восходит, вероятно, к еванг. словам Христа: "Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию" (Лк 10. 18).
Л. очень восприимчив к поэзии культовых, молитвенных, апокрифич. образов. Он то вспоминает мистич. "топографию" рая ("Когда бы встретил я в раю / На третьем небе образ твой", стих. "К деве небесной", 1831; ср. 2 Кор 12. 2-4), то, сравнивая себя со своим демоном, именует его "царем воздушным" (стих. "Одиночество", 1830) - в соответствии с церк. представлением о сатане как "князе воздуха" или "о духах злобы поднебесных", разгоняемых колокольным звоном,- то, в согласии с храмовой символикой, зрительно отождествляет прегражденный доступ в рай с затворенными "царскими вратами", ведущими в алтарь ("М. П. Соломирской", 1840, или "решетка райской двери", упомянутая в романе "Вадим"). Его обширная "ангелология" и "демонология" оформлена библейско-церк. представлениями о духовно-личностных, бестелесных существах, чья особая природа описана в "Сказке для детей" (строфа 5-я) с почти доктринальной дотошностью. У Л. можно найти и глубоко архаич. соотнесение ангелов, "воинства небесного" со звездами ("ангелов вечерние лампады", поэма "Сашка", 48-я строфа; астральные пейзажи в "Демоне", особенно в т. н. ереванском списке, где герой, выполняя до своего падения традиц. ангельские функции, "стройным хором возводил / Кочующие караваны / В пространстве брошенных светил"), и христ.-мистич. идею об ангельской иерархии как зеркалах "славы божией" (песня монахини во 2-й ред. "Демона"), и интимно-лирич. ощущение неуловимого ангельского полета, сравниваемого с несущимся звуком или скользящим по ясному небу следом. Др. словами, ангелы и демоны присутствуют в поэзии Л. на правах конкретных "иконографических" персонажей, а не только ценностных символов. Мир божницы, заполненный предметами культа (образ, крест, лампада), внутрихрамовое пространство, звон церк. или монастырского колокола - вызывают у поэта умиленный (стих. "Ветка Палестины", где, в частности, "чистые воды Иордана" напоминают о крещальных водах) или сумрачно-трагический (описание образов в "Боярине Орше", безнадежные удары колокола в "Мцыри"), но всегда живой и глубоко заинтересованный отклик. Поэзия и поэтика традиц. молитвы не оставляет его равнодушным, даже когда он использует их полемически; так, в стих. "Молитва" ("Я, матерь божия...") перечислен целый ряд прошений, типичных для православной молитв, практики (о спасении, о победе, о прощении грехов и т. д.) с тем, чтобы перечеркнуть каждое из них отстраняющим "не...", "не...", "не..." и ограничиться "бескорыстной" молитвой "не за себя", а за "деву невинную" (ср. отказ надоедать "лишней просьбой" в шуточной "Юнкерской молитве", пародирующей молитв, обращение к святому духу).
Но насколько близка Л. поэзия христ. обрядности и символической библейско-христ. космологии, настолько чужда, инородна ему еванг. этика крестной жертвы, искупит, страданий, любви к врагам. Именно в этич. плоскости приобретает наибольший смысл известная характеристика Д. С. Мережковского: творчество Л. - непрестанный спор с христианством. Важнейшая еванг. максима о самоограничении и самоотречении: "Входите тесными вратами..., потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь" (Мф 7.13-14), патетически пережитая в рус. поэзии Пушкиным (финал стих. "Странник") и Некрасовым (песня "Средь мира дольнего" из поэмы "Кому на Руси жить хорошо"), у Л. сразу же вызывает судорожное сопротивление (стих. "Молитва", 1829). Правда, в одной из сцен юношеской драмы "Menschen und Leidenschaften", где бабушке автобиогр. героя читают Евангелие, автор обличает в ней непонимание и бессознат. отвержение еванг. текста - ее духовную слепоту, мстительность, своекорыстие и самодовольство. Но в "Вадиме" у Л. вызывает отталкивание уже не морально-житейская практика дурных христиан (и не лицемерие властолюбивого клира, как в "Испанцах"), а самая надежда "труждающихся и обремененных" (Мф 11.28-30) найти утешение и прибежище у "спасителя" (эпизод бесплодной молитвы Ольги перед иконой Христа) и их готовность понести "иго Христово". Прозвучавшие в этом неоконч. романе слова: "Где есть демон, там нет бога" - могут служить ответом на недоуменный вопрос Мережковского, почему лермонт. "спор с христианством" почти вовсе обходится без упоминаний о самом Христе; у Л. с юных лет образ богочеловека "Иисуса сладчайшего" был вытеснен "обратным" ему, но тоже божественно-антропоморфным образом Демона, сияющим "волшебно-сладкой красотою", и евангельский Христос не умещался в душе Л. даже в качестве оппонента - его место было занято "Другим".
Однако в той мере, в какой традиционные христ. вера и мораль связаны в сознании Л. с нар.-эпич. началом, он находит в них героику, величие и правду. Герой "Песни про ... купца Калашникова" Степан Парамонович - отважный боец за правду и честь и одновременно "страстотерпец" в нар.-рус. понимании этого слова: по ходу поединка он под натиском опричника как бы распинается на своем медном нательном кресте "со святыми мощами из Киева" ("как роса из-под него кровь закапала"), и эта жертвенная "распятость" таинственно помогает ему "постоять за правду до последнева" - нанести решающий удар осквернителю чтимых обычаев.
См. также статьи Богоборческие мотивы, Демонизм, Религиозные мотивы.
Лит.: Шувалов (2); Никитин М., Идеи о боге и судьбе в поэзии Л., Н.-Новгород, 1915; Гроссман (2); Заборова Р. Б., Материалы о М. Ю. Л. в фонде В. Ф. Одоевского, "Тр. ГПБ", т. 5(8), Л., 1958; Любович (4); Коровин (4), с. 157; Мещерский Н. А., Об эпиграфе к поэме М. Ю. Л. "Мцыри", "Филологические науки", 1978, № 5.
Источники:
- Лермонтовская энциклопедия. Гл. ред. В. А. Мануйлов.- М.: 'Советская энциклопедия', 1981.- 784 стр. с илл. В надзаг.: Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом). Научно-редакционный совет издательства.
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://m-y-lermontov.ru/ "M-Y-Lermontov.ru: Михаил Юрьевич Лермонтов"